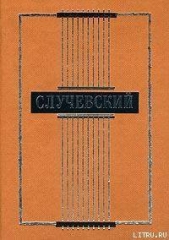Многое теперь изменилось,
Как Вардан в чертогах появился.
Позабыла Августа Пульхерья,
Что ей скоро шесть десятков минет,
Стала слушать пение Вардана,
Стала млеть, и жмуриться, и таять,
По ночам метаться на перинах,
Томиться на пухе журавлином,
Стала призывать к себе Вардана,
Чтобы рыться в цензах и кадастрах
Под напев тропарей сладкозвучных.
Пел Вардан ей и скоро приметил,
Что, когда он изливает трелью,
Выпрямляется Августа Пульхерья
И закатывает глаза, как птица,
Под крыло пронзенная стрелою,
И ресницами черными плещет.
Постарался тут Вардан наполнить
И свои глаза мерцаньем нежным,
Черным медом и горячим маслом.
А когда заботливо Августа
Отдохнуть ему предлагала,
Мудрое порой ронял он слово,
Как виньетку на суровый требник:
То налог подсказывал новый,
То скорбел о новшествах опасных,
Вводимых епископом эдесским
В пенье трисвятой аллилуйи,
То мечтал, как бы он аваров
Натравил на болгар свирепых.
И взором, от нежности мрущим,
Он опять оглаживал Августу
И опять за пенье принимался,
Душу ей овевая трелью.
Наконец Августа Пульхерья,
Звездочетов своих умаяв,
Покуда они догадались,
Что ей нужно от созвездий вещих,
Посылает за патриархом
И приказывает его блаженству
Разрешить ее от уз добровольных,
От обета соблюдать девство
И ее обвенчать с Варданом:
Это-де внушено ей Богом.
Тут владыка церкви вселенской
Размахался, было, бородою,
Попытался, было, упереться,
Но лишь глянул в лицо Августы,
Лишь припомнил монастырь кавказский,
Где провел восемь лет в изгнаньи, —
Так решил не искушать Бога
И для блага церкви православной,
Чтоб ее сиротой не оставить,
Уступить желаньям Августы.
Но притом он помыслил тайно,
Что опять Иезабель взбесилась!
Села тут Августа в носилки
И велела рабам быстроногим
Отнести ее тотчас в Буколеон,
В приморскую виллу базилевса,
А вперед послала скорохода
Предварить его о посещеньи.
Неохотно базилевс покинул
Аналой из слоновой кости,
На котором он пером лебединым
Переписывал духовные гимны,
Нанося на девственный пергамент
Буквы киноварью и лазурью.
Прохлаждавшийся в кисейной тунике,
С неохотой базилевс напялил,
По уставам церемониала,
Златотканые саккос и далматик
И пурпурную жаркую хламиду;
Только соломенные туфли
Позабыл он сменить на сапожки
Из мягкого алого сафьяна.
Тут вошла Августа Пульхерья,
До земли поклонилась базилевсу,
По правилам церемониала,
Поцелуем коснулась христианским
Руки и плеча базилевса
И тотчас на него раскричалась,
Говоря, что последний конюх
Судомойке показать постыдится
Чуть прикрытую лаптями подагру!
Промолчал базилевс на укоры,
Ибо в самом деле устыдился.
Чтоб отвлечь внимание Августы,
Вынул он из амарантовой скрыни
Маленький пергаментный свиток
С оловянною на шнурке печатью:
Это-де послание папы,
Которого теснят лонгобарды.
Пишет папа, что князья земные,
Короли лонгобардов и франков
И калифы безбожных сарацинов,
Все как есть управляют рабами,
И, напротив, базилевс ромэев
Лишь один свободными правит,
Наслаждающимися покоем,
Под ярмом благодатной власти,
Под эгидой республики священной,
Дальше папа просит денег выслать
И унять Равенского дуку;
Далее шлет благословенье
Базилевсу и его семейству
И отдельно Августе Пульхерье;
Просит еще соизволенья
Пропустить экономов папских
В хлебные азийские фемы
Милостыни посбирать для папы,
Ибо в Сицилии хлебной
Все сожрали саранча-арабы.
Насупилась мудрая Пульхерья:
«Не верь, — говорит, — попрошайке;
Прикажи Равеннскому дуке
Поприжать его хорошенько;
Он у дураков-лонгобардов,
Запугав короля их адом,
Уже четвертый выклянчил город,
А сам, еретик прокаженный,
Пресным хлебом заправляет причастье,
Не желает хлеба квасного,
В котором дыхание жизни,
На дрожжах, видно, экономит!
Этак скоро он в кровь Христову
Накрошит кукурузный бублик!»
Тут опять базилевс устыдился,
Ибо мудро рассудила Пульхерья,
И спрятал послание в скрыню.
Поглядела на него Августа,
Просверлила черными очами
И сказала, что грех великий
Каждодневно в империи творится:
Мыло-то ведь делают из сала,
А сало-то предмет ведь скоромный,
Стало быть, — посты оскверняют
Мыловары и мыломойцы!
Нужно императорским указом
Воспретить в посты мыловаренье, —
В четыредесятницу святую
И в другие, и в пяток и среду.
Можно, впрочем, в эти дни дозволить
Мыло на оливковом масле:
Тем и благочестье охранится,
И цена возрастет на оливки,
А ими домены базилевса
И сказать нельзя, как богаты!
Базилевс позвонил в колокольчик
И велел призвать логофета
С хартуллариями и писцами
И комита царских доменов,
И квестора чернильницы царской.
Вошли они по порядку,
Преклонились до земли по уставу,
Отвесили нужные поклоны,
Выслушали волю базилевса
И указ немедля написали.
И хранитель чернильницы священной,
На коленях стоя, базилевсу
Подставил ковчежец чеканный
С драгоценным пурпурным чернилом,
Присвоенным только базилевсу.
Базилевс пером лебединым
Начертил священную подпись,
А за ним чины государства
Чернилами зеленого цвета
Надписали индикт и дату
И своею подписью скрепили,
И заверили копии указа,
А хронографы новое деянье
В летопись немедля написали.
Удалились логофет и квестор,
И другие, — и опять Августа
Взор на базилевса устремила:
Знает ли базилевс великий,
Что в Магнаврском университете
На экзаменах студиозы пишут
Комментарии к пиимам Омира,
Что от Бога их отвращает,
Ослабляет рвение к церкви?
Не благоугодно ль базилевсу
Предписать, чтоб в университете
Жития святых изучали
И писали их переложенья,
Расцвечая цветами красноречья?
Также надо обратить вниманье
На иконописцев влахернитских:
Сладчайшего пишут они Спаса
Желто-розовой телесной краской,
Очи делают ему голубыми,
На ланиты сажают румянец,
Плотскую придают ему прелесть,
Человеческое выраженье!
Забывают, что в Христе Иисусе
Нераздельно и неслиянно
Две природы сосуществуют,
Человеческая и Божья!
Так что загноились те иконы
Смрадной ересью монофизитов!
«Как же, — базилевс удивился —
Божью сущность выразить краской?
Краска-то, она ведь телесна,
А Божья-то сущность бесплотна?»
Разгневалась тут Августа
На такое детское неразумье,
Раскричалась и объяснила:
«Надо, чтобы лик и длани
Были краской писаны тусклой,
Чтобы плечи пречистые и чрево,
Как мясные, с доски не выпирали,
И под ровными складками хитона
Как бы вовсе не было тела!
А на лике должна быть разлита
Благость неизреченная, сладость!
А кругом побольше позолоты,
Нимбов золотых и сияний,
И одежды чтобы все сверкали,
А персты чтобы благословляли!
А кругом чтоб были емблемы:
И кресты, и Евангелье, и Чаша,
И золотоглавые соборы,
И многозначительные буквы,
Чтобы каждый духом возносился,
Их святое постигая значенье!
Да велеть, чтобы все живописцы
Спасов лик по-единому писали,
От себя ничего не добавляя!»
Согласился на все император,
Ибо мудро говорила Августа,
И к тому же в парадном орнате
От жара невтерпеж ему стало.
Видя то, помолчала Августа,
Потомила базилевса молчаньем
И, очами сверля, рассказала,
Что было ей сонное виденье:
Явился ей Димитрий Салунский
И велел ей выйти за Вардана,
Обещав, что от этого союза
Народится светильник церкви.
Поглядел на нее император
И промолвил, как с обрыва прыгнул:
«Да ведь вы, сестрица, усохли;
Не родить вам, думаю, и подсвечник».
Полчаса в соседних покоях
Хартулларии удивлялись:
Что там происходит в кабинете,
В недоступной палате базилевса?
А потом зазвонил колокольчик,
И опять позвали логофета
Со всеми дворцовыми чинами,
И в синклит погнали скорохода
Консула пригласить немедля,
Ибо в республике ромэев
Без консула, без народной власти,
Ничего произойти не может.
А пока базилевс удалился
Во внутренние свои покои
Обуться в пурпурные сапожки,
И сменить зачем-то хламиду,
И прическу заодно поправить.
Там любимый встречает его евнух,
Маленький, розовенький, пухлый;
Говорит он, кошечкой ласкаясь,
Что только что видел виденье:
Явился ему Димитрий Салунский
И сказал, что Вардан — мерзавец
И что втайне замыслил он, гнусный,
Базилевса низложить с престола,
Самому на престоле ромэйском
Сухопарым усесться задом.
Как влетела тут Августа Пульхерья,
Как вцепилась евнуху в ухо:
«Ах ты, какосодигос подлый!
Это тебе-то, неподтертый,
Димитрий является Салунский?
Да он, пребывая в кущах райских,
На тебя, афродитская нечисть,
С неба и плюнуть не захочет!
Базилевс великий! Император!
Здесь твою сестру оскорбляют!
Прикажи анафему немедля
Отлучить от церкви православной
И отдать врачам-живорезам:
Чтоб они ему грудь распороли,
Поглядели, как работает сердце!»
«Диалектика! — сказал император. —
Хоть убей, ничего не понимаю!»
К счастью, доложили в ту минуту,
Что прибыли консул и димархи,
И пошел в тронный зал император,
И за ним Августа потрусила,
А евнух забился под портьеру,
Растирая распухшее ухо
И шепча молитвы и проклятья.
По правилам церемониала,
Совершился великий выход,
И немедленно золотописцы
Весь торжественный чин описали.
Базилевс объявил вельможам,
Что, движимый волею Господней
И заботой о благе государства,
Заблагорассудил он выдать
Августу Пульхерью за Вардана,
А чтоб не было титулу порухи,
Возвести реченного Вардана
В звание кесаря святое.
Выступил тут, нахмурясь, консул
И сказал, что древние роды —
Гордость республики ромэев —
И что охранять эти роды
От вторжения особ худородных —
Первая задача синклита.
Но, конечно, если император
Милостью осенил Вардана,
То лишь ярче знать воссияет,
Видя базилевсова зятя
Над собою в кесарском званьи.
Так что со стороны синклита
Возражений никаких не будет.
Базилевс кивнул благосклонно;
Все свершилось так, как подобает,
Ибо в государстве православном
Император и народ едины.
Дальше все пошло по порядку:
Нарекли Вардана кандидатом,
И в разрядные книги записали,
И печатью скрепили запись;
Потом нарекли его спафаром
И опять записали в книги;
Дальше протоспафаром стал он,
А через минуту ассикритом;
После был он сделан ипотом,
Далее патрикием сделан,
Себастом и протосебастом,
Наконец — пангиперсебастом,
И совсем наконец был он назван
Кесарем империи Ромэйской —
Всего только на две ступени
Ниже базилевса ромэев.
Принесли тут слуги Августы
Мягкие сафьянные сапожки
Травяного нежного цвета.
Тут Вардан появился в зале,
Распростерся перед базилевсом,
Преклонился перед Августой
И надел кесарскую обувь.
Подошел к нему сияющий консул,
Лобызал ему почтительно руку,
Подошли и другие вельможи
И тоже руку облобызали,
И чиновники пониже рангом
Приложились губами к сапожкам.