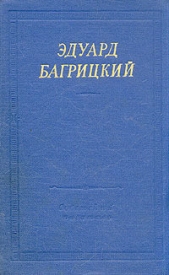В Кутаисе и подле, в окрестностях,
Где в долинах, над склонами скал,
Ждут развалины храмов грузинских,
Кто бы их поскорей описал…
Где ни гипс, ни лопата, ни светопись
Не являлись работать на спрос;
Где ползут по развалинам щели,
Вырастает песчаный нанос;
Где в глубоком, святом одиночестве
С куполов и замшившихся плит,
Как аскет, убежавший в пустыню,
Век, двенадцатый счетом, глядит;
Где на кладбищах, вовсе неведомых,
В завитушках крутясь, письмена
Ждут, чтоб в них знатоки разобрали
Разных, чуждых людей имена, —
Там и русские буквы читаются!
Молчаливо улегшись рядком,
Все коллежские дремлют асессоры
Нерушимым во времени сном.
По соседству с забытой Колхидою,
Где так долго стонал Прометей;
Там, где Ноев ковчег с Арарата
Виден изредка в блеске ночей;
Там, где время, явившись наседкою,
Созидая народов семьи,
Отлагало их в недрах Кавказа,
Отлагало слои на слои;
Где совсем первобытные эпосы
Под полуденным солнцем взросли, —
Там коллежские наши асессоры
Подходящее место нашли…
Тоже эпос! Поставлен загадкою
На гробницах армянских долин
Этот странный, с прибавкою имени
Не другой, а один только чин!
Говорят, что в указе так значилось:
Кто Кавказ перевалит служить,
Быть тому с той поры дворянином,
Знать, коллежским асессором быть…
И лежат эти прахи безмолвные
Нарожденных указом дворян…
Так же точно их степь приютила,
Как и спящих грузин и армян!
С тем же самым упорным терпением
Их плывучее время крушит,
И чуть-чуть нагревает их летом,
И чуть-чуть по зиме холодит!
Тот же коршун сидит над гробницами,
Равнодушен к тому, кто в них спит!
Чистит клюв, обагренный добычей,
И за новою зорко следит!
Одинаковы в доле безвременья,
Равноправны, вступивши в покой:
Прометей; и указ, и Колхида,
И коллежский асессор, и Ной…
Тяжелый день… Ты уходил так вяло…
Я видел казнь: багровый эшафот
Давил как будто бы сбежавшийся народ,
И солнце ярко на топор сияло.
Казнили. Голова отпрянула, как мяч!
Стер полотенцем кровь с обеих рук палач,
А красный эшафот поспешно разобрали,
И увезли, и площадь поливали.
Тяжелый день… Ты уходил так вяло…
Мне снилось: я лежал на страшном колесе,
Меня коробило, меня на части рвало,
И мышцы лопались, ломались кости все…
И я вытягивался в пытке небывалой
И, став звенящею, чувствительной струной, —
К какой-то схимнице, больной и исхудалой,
На балалайку вдруг попал едва живой!
Старуха страшная меня облюбовала
И нервным пальцем дергала меня,
«Коль славен наш господь» тоскливо напевала,
И я вторил ей — жалобно звеня!..
Забыт обычай похоронный!
Исчезли факелов ряды,
И гарь смолы, и оброненный
Огонь — горящие следы!
Да, факел жизни вечной темой
Сравненья издавна служил!
Как бы объятые эмблемой,
Мы шли за гробом до могил!
Так нужно, думалось. Смиримся!
Жизнь — факел! Сколько их подряд!
Мы все погаснем, все дымимся,
А искры после отгорят.
Теперь другим, новейшим чином
Мы возим к кладбищам людей;
Коптят дешевым керосином
Глухие стекла фонарей;
Дорога в вечность не дымится,
За нами следом нет огня,
И нет нам времени молиться
В немолчной сутолоке дня;
Не нарушаем мы порядка,
Бросая искры по пути,
Хороним быстро, чисто, гладко —
И вслед нам нечего мести!
К вокзалу железной дороги
Два поезда сразу идут;
Один — он бежит на чужбину,
Другой же — обратно ведут.
В одном по скамьям новобранцы,
Все юный и целый народ;
Другой на кроватях и койках
Калек бледноликих везет…
И точно как умные люди,
Машины, в работе пыхтя,
У станции ход уменьшают,
Становятся ждать, подойдя!
Уставились окна вагонов
Вплотную стекло пред стеклом;
Грядущее виделось в этом,
Былое мелькало в другом…
Замолкла солдатская песня,
Замялся, иссяк разговор,
И слышалось только шаганье
Тихонько служивших сестер.
В толпе друг на друга глазели:
Сознанье чего-то гнело,
Пред кем-то всем было так стыдно
И так через край тяжело!
Лихой командир новобранцев, —
Имел он смекалку с людьми, —
Он гаркнул своим музыкантам:
«Сыграйте ж нам что, черт возьми!»
И свеялось прочь впечатленье,
И чувствам исход был открыт:
Кто был попрочней — прослезился,
Другие рыдали навзрыд!
И, дым выпуская клубами,
Машины пошли вдоль колей,
Навстречу судьбам увлекая
Толпы безответных людей…