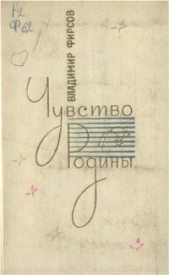Стихотворения и поэмы
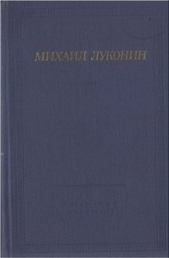
Стихотворения и поэмы читать книгу онлайн
М. К. Луконин (1918–1976) — известный советский поэт, чья биография и творческий путь неотделимы от судьбы фронтового поколения. Героика Великой Отечественной войны, подвиг народа в годы восстановления народного хозяйства — ключевые темы его стихов.
Настоящий сборник, достаточно широко представляющий как лирику Луконина, так и его поэмы, — первое научно подготовленное издание произведений поэта.
В книге два раздела: «Стихотворения» и «Поэмы». Первый объединяет избранную лирику Луконина из лучших его сборников («Сердцебиенье», «Дни свиданий», «Стихи дальнего следования», «Испытание на разрыв», «Преодоление», «Необходимость»), Во второй раздел включены монументальные эпические произведения поэта «Дорога к миру», «Признание в любви», а также «Поэма встреч» и главы из поэмы «Рабочий день».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
123. ВОЗРАСТ
ВЗДОХ ОБЛЕГЧЕНИЯ
124. ТЫ СЛЫШИШЬ?