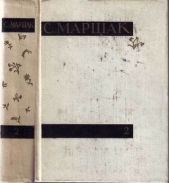Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений

Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений читать книгу онлайн
В книге впервые собрано практически полностью поэтическое и мемуарное наследие выдающегося писателя "второй волны" русской эмиграции Глеба Александровича Глинки (1903-1989). Представитель одного из уничтоженных течений советской литературы, группы "Перевал", учитель поэта Николая Глазкова, Глинка жил в довоенном СССР в ожидании ареста, пока не разразилась война. Писатель был призван в "ополчение" и осенью 1941 г. попал в немецкий плен. Судьба поэта сложилась необычно: в СССР его считали погибшим, но он был освобожден союзниками, уцелел, жил сперва в Бельгии, позже в США, где влился в поток эмигрантской литературы и писал до конца жизни.
Помимо примерно двухсот стихотворений, книга содержит впервые публикуемый полный текст книги "На перевале" и избранные статьи о литературе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отношение Воронского к «Перевалу» с самой его организации было всегда осторожным, и тут тоже чувствовалась некоторая дистанция. Воронский постоянно всем своим поведением как бы подчеркивал, что никакого давления на перевальские решения оказывать не собирается и предоставляет перевальцам ту же свободу мыслить и действовать на свой страх и риск, каковой пользуется он сам.
Из участников содружества первое время он близко общался с Николаем Зарудиным, который одновременно с ним примкнул к троцкистам. Но в наиболее тяжелые дни (исключение из партии, уход из «Красной нови») он почувствовал, что самыми верными друзьями его являются Лежнев и Горбов. В разгаре ожесточенной травли «Перевала», замечая естественное смятение у некоторых соратников, Воронский с обычной своей добродушной усмешкой всерьез уговаривал их бросить весь этот никому не нужный героизм верности и ради собственной безопасности отречься от своего перевальства и в первую очередь, конечно, от «воронщины».
С начала тридцатых годов для Воронского снова наступает полоса обысков, арестов, допросов и ссылок. После официального раскаяния основных участников троцкистского блока Воронений был возвращен в Москву и работал редактором отдела классической литературы в Государственном издательстве. Здоровье его к этому времени было сильно подорвано. Он уже совсем не выступал как литературный критик, с перевальцами общался мало, писал свои мемуары и усиленно работал над книгой о Гоголе.
Некоторые главы из этой рукописи Александр Константинович читал кое-кому из своих ближайших друзей (называть их имена пока преждевременно). И, судя по отдельным отрывкам, было ясно, что книга эта — явление весьма замечательное.
Гоголь, по утверждению Воронского, радовал и мучил его в течение всей жизни. Ко времени полного крушения социальных и личных стремлений Александра Константиновича он еще раз, уже новыми глазами и новой, истерзанной страданиями душой пытается осмыслить трагический путь своего любимого писателя. Вслед за М.О. Гершензоном Воронский доказывает, что Гоголь-мыслитель неотделим от художника. Шаг за шагом, с упорством добросовестного исследователя и с трепетом человека, добровольно принимающего мученический венец, Воронский защищает Гоголя от Белинского и от всех советских литературоведов, упорно продолжающих повторять нелепые утверждения неистового Виссариона.
Такая книга о Гоголе, разумеется, была немыслима в сталинский период советской литературы. В подготовлениом для печати виде она была конфискована органами ГПУ во время последнего ареста Воронского в начале 1935 года, а в декабре того же года до нас дошли вполне определенные слухи о том, что Александр Константинович Воронский умер в клинике Бутырской тюрьмы.
А. Лежнев
«Для нас социализм — не огромный работный дом, как это представляется маниакам производственничества и поборникам фактографии, не унылая казарма из «Клопа» (пьесы В. Маяковского), где одинаково одетые люди умирают от скуки и однообразия. Для нас это — великая эпоха освобождения человека от всяких связывающих его пут, когда все заложенные в нем способности раскрываются до конца. Для нас она не окрашена в серый цвет, но наполнена теплом и светом. И мы хотим, чтобы отблеск его проник и в нынешнее искусство, чтобы оно озарялось не только газетными лозунгами текущего дня, но и великими идеями времени. Ибо мы не ожидаем гибели искусства, но думаем, что пора его настоящего цветения только наступает. И мы полагаем, что уже сейчас надо начать работать над этим большим и радостным искусством, которое полным голосом сумеет повторить слова Бетховена: “Какое счастье прожить тысячу раз жизнь! ”».
Так заканчивает свое предисловие к седьмой книге «Ровесники» А. Лежнев, и хотя говорит он от лица всей группы, но мысли и чувства эти характерны прежде всего для него самого. Больше, чем кто-либо из перевальцев, он, наперекор всему, абсолютно верил в действительный и действенный социализм, долженствующий освободить не какое-то отвлеченное человечество, а каждого отдельного человека «от всяких связывающих его пут».
А. Лежнев — литературный псевдоним Абрама Захаровича Горелик. Родился Абрам Захарович в 1893 году. Он выходец из Белоруссии, из среды бесправной еврейской бедноты, ютившейся на окраинах России. Его преданность социализму не случайное увлечение — заветную мечту освобождения человека он принес из самых глубин своего безрадостного детства. Еще до революции он примыкал к меньшевикам, но затем остался на всю жизнь беспартийным марксистом.
Лежнев, несомненно, принадлежал к вымирающей ныне категории людей с больной совестью, для которых в вопросах добра и зла не существовало никаких компромиссов и полутонов.
Выглядел он значительно старше своих лет. Низкорослый, с болезненно бледным цветом лица, с голым, лишь слегка обрамленным венчиком седеющих волос, угловатым черепом. Глаза темные, в которых чувствовался быстрый, острый ум и в то же время какая-то девичья стыдливая страстность.
Таких людей, каким был Абрам Захарович, в общежитии принято считать чудаками. В нем совсем не было какого-либо корыстолюбия, ни даже авторского честолюбия. Когда после своих критических работ в 1930 году Лежнев впервые принялся за художественные очерки, он волновался как ребенок, бесконечно советовался с Катаевым, Зарудиным и Слетовым. Жаловался, что, по-видимому, у него нет никакого дарования для художественного письма. Читая отрывки из своих «Белорусских очерков», он просил своих соратников по «Перевалу» судить его работу совершенно беспощадно.
К вопросам нравственной чистоты, морали и особенно ко всему, что касалось справедливости личной и общественной, он был болезненно чуток, отсюда его страстность в полемике с представителями ВАППа. Но в своей нервной запальчивости, в своих всегда остроумных и ярких выступлениях Лежнев всё же оказался беззащитен, так как из года в год становилось всё яснее, что то, что «Перевал», и в частности Лежнев, называл вульгаризаторством марксизма, подхалимством и делячеством, не было явлением случайным, а вполне закономерным результатом внутренней политики большевистской партии.
Нападки Лежнева на бездарные, фальшивые произведения казенная критика воспринимала как «высокомерное третирование пролетарского искусства». Литературная энциклопедия, которая начала выходить в 1927 году, все статьи о писателях «Перевала» дает с резким осуждением политических взглядов этой группы. И всё же даже у Воронского Литературная энциклопедия отмечает некоторые заслуги, но статья о Лежневе более напоминает донос в НКВД, нежели какую бы то ни было литературную оценку его писательской деятельности.. Объясняется это тем, что том энциклопедии на букву «Л» вышел только в 1931 году, т.е. ко времени наиболее ожесточенной травли «Перевала».
В статье этой прежде всего акцентируется, что Лежнев примыкал к социал-демократам – меньшевикам, даже без упоминания времени, когда это происходило. Его принадлежность к меньшевизму показана следующим образом:
«Воззрения Лежнева на литературу и искусство целиком исходят из меньшевистски-ликвидаторской политики Троцкого-Воронского в отношении пролетарской культуры, в частности искусства и литературы. Эстетические и литературные взгляды Лежнева эклектичны и в основе своей идеалистичны, поскольку они определены старыми буржуазными (Кант, Шопенгауэр, Бергсон) положениями о бессознательном, интуитивном, иррациональном характере художественного творчества. Эти установки приводят Лежнева к крайне реакционным выводам; ратуя за бестенденциозное искусство, Лежнев призывает писателей к искренности. Лозунгом «искренности» Лежнев заранее оправдывает всякое контрреволюционное произведение».
Затем в статье говорится, что «проблему видения» Лежнев полностью воспринял от Воронского. И дальше снова о неблагонадежности, реакционности и антипролетарской устремленности литературных высказываний Лежнева.
«Выступая будто бы против схематизма Лефовской фактографии, Лежнев на деле яростно борется лишь с пролетарским революционным искусством, которому он в целом бросает обвинение в «сальеризме». Он свысока третирует пролетарское искусство.