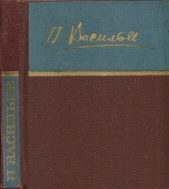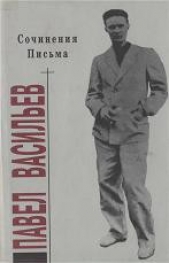Я — сначала — к подруге пришел
И сказал ей:
«Все хорошо,
Я люблю лишь одну тебя,
Остальное все — чепуха».
Отвечала подруга:
«Нет,
Я люблю сразу двух, и трех,
И тебя могу полюбить,
Если хочешь четвертым быть».
Я сказал тогда:
«Хорошо,
Я прощаю тебе всех трех,
И еще пятнадцать прощу,
Если первым меня возьмешь».
Рассмеялась подруга:
«Нет,
Слишком жадны твои глаза,
Научись сначала, мой друг,
По-собачьи за мной ходить».
Я ответил ей:
«Хорошо,
Я согласен собакой быть,
Но позволь, подруга, тогда
По-собачьи тебя любить».
Отвернулась подруга:
«Нет,
Слишком ты тороплив, мой друг,
Ты сначала вой на луну,
Чтобы было приятно мне!»
«Привередница, — хорошо!»
Я ушел от нее в слезах,
И любил
Девок двух, и трех,
А потом пятнадцать еще.
И пришла подруга ко мне,
И сказала:
«Все хорошо,
Я люблю одного тебя,
Остальные же — чепуха…»
Грустно сделалось
Мне тогда.
Нет, подумал я, никогда, —
Чтоб могла
От обидных слов
По-собачьи завыть душа!
Так, взрывая вздыбленные льды,
Начиналась ты.
И по низовью,
Что дурной, нахлынувшею кровью,
Захлебнулась теменью воды.
Так ревела ты, захолодев,
Глоткой перерезанною бычьей,
Нарастал подкошенный припев —
Ветер твой, твой парусный обычай!
Твой обычай парусный! Твой крик!
За собой пустыни расстилая,
Ты гремела,
Талая и злая,
Ледяными глыбами вериг.
Не твои ли взбухнувшие ливни
Разрывали зимнее рядно?
Осетры, тяжелые, как бивни,
Плещутся И падают на дно.
Чайки,
снег
и звезды над разливом,
Астрахань,
просторы,
промысла…
Ты теченьем черным и пугливым
Оперенье пены понесла!..
Смяв и сжав
Глухие расстоянья,
Поднималась ты — проста, ясна.
Так в права вошли: соревнованье,
Темпы, половодье и весна.
Захлебываясь пеной слюдяной,
Он слушает, кочевничий и вьюжий,
Тревожный свист осатаневшей стужи,
И азиатский, туркестанский зной
Отяжелел в глазах его верблюжьих.
Солончаковой степью осужден
Таскать горбы и беспокойных жен,
И впитывать костров полынный запах,
И стлать следов запутанную нить,
И бубенцы пустяшные носить
На осторожных и косматых лапах.
Но приглядись, — в глазах его туман
Раздумья и величья долгих странствий…
Что ищет он в раскинутом пространстве,
Состарившийся, хмурый богдыхан?
О чем он думает, надбровья сдвинув туже?
Какие мекки, древний, посетил?
Цветет бурьян. И одиноко кружат
Четыре коршуна над плитами могил.
На лицах медь чеканного загара,
Ковром пустынь разостлана трава,
И солнцем выжжена мятежная Хива,
И шелестят бухарские базары…
Хитра рука, сурова мудрость мулл, —
И вот опять над городом блеснул
Ущербный полумесяц минаретов
Сквозь решето огней, теней и светов.
Немеркнущая, ветреная синь
Глухих озер. И пряный холод дынь,
И щит владык, и гром ударов мерных
Гаремным пляскам, смерти, песне в такт,
И высоко подъяты на шестах
Отрубленные головы неверных!
Проказа шла по воспаленным лбам,
Шла кавалерия
Сквозь серый цвет пехоты, —
На всем скаку хлестали по горбам
Отстегнутые ленты пулемета.
Бессонна жадность деспотов Хивы,
Прошелестят бухарские базары…
Но на буграх лохматой головы
Тяжелые ладони комиссара.
Приказ. Поход. И пулемет, стуча
На бездорожье сбившихся разведок,
В цветном песке воинственного бреда
Отыскивает шашку басмача.
Луна. Палатки. Выстрелы. И снова
Медлительные крики часового.
Шли, падали и снова шли вперед,
Подняв штыки, в чехлы укрыв знамена,
Бессонницей красноармейских рот
И краснозвездной песней батальонов.
…Так он, скосив тяжелые глаза,
Глядит на мир, торжественный и строгий,
Распутывая старые дороги,
Которые когда-то завязал.