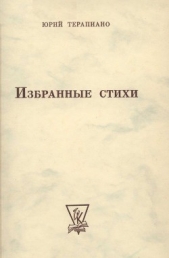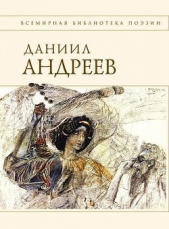«О, темные ночные разговоры…»
Борису Шлецеру
О, темные ночные разговоры,
Незримые, незримые слова…
Во мраке с головою голова
Беседуют, как опытные воры…
Ужасный час… На собственной подушке
К законной страже каждый приступил,
И слышен скрип убийственнейших пил,
И сыпятся секретнейшие стружки…
О, как чарует песней лебединой
Под наволочкой лебяжий пух,
И лебедь умирающий распух,
И умер по бокам и в середине…
Ужасный час… Двуспальная скамья
О, для неподсудимых… Ночью судной
Все ангелы сидят на белых суднах…
Спокойной ночи вам желаю я.
Сплелись мужской и женский голоса,
Запутался, оправдываясь голос,
И отсекает голосящий волос
Ее косы о, смерть, твоя коса…
«Я полагал, что нервные припадки…»
Я полагал, что нервные припадки
Давно прошли… Всего их было семь…
И я, на слезы и на нежность падкий,
Почти спокоен… Сплю, пишу и ем…
Но был восьмой припадок… Я сегодня
Так долго бился… И мой страх воскрес…
Тебя уж нет, но есть любовь Господня…
Мне помогли молитвы и компресс.
«По кладбищу хожу веселый…»
По кладбищу хожу веселый,
С улыбкой светлой на губах,
Смотря как быстро новоселы
Устроились в своих гробах.
На кладбище всегда веселье –
Ко всем, кто бесприютно жил,
Пришел на праздник новоселья
Живущий выше старожил.
«Я не люблю оранжереи…»
Я не люблю оранжереи,
Где за потеющим стеклом
Растенье каждое жирея
Зеленым салом затекло.
И, к грядкам приникая ближе,
Цветов прожорливые рты
Навозную вбирают жижу
В извилистые животы…
О, если бы стеблям высоким
При свете газовом не зреть,
Не пить химические соки
И за стеклом не ожиреть.
А солнечный остроконечник
Очистил бы своей водой
Благоухающий кишечник
Цветов пресыщенных едой…
«Чрез струны железные лиры…»
Чрез струны железные лиры
Я видел при утренних звездах
Как взвеяли ангелов клиры
Крылами и пением воздух,
И я, прижимаясь к железной
Струне у подножья лиры,
Смотрел, преклоненный и слезный,
На воздух и пенье, и клиры…
«Я на соломинку чужого глаза…»
Я на соломинку чужого глаза
Указываю редко и с трудом,
Зато из бревен моего я сразу
Построить мог бы превысокий дом.
Он был бы выстроен в ужасном стиле,
Но подивился бы бездушный мир,
Узнав, что всех бездомных разместили
По светлым комнатам моих квартир.
Имелись бы в нем платье, обувь, пища,
Конечно, все простое – я не Крез.
Но тот, кто грязен был, тот стал бы чище,
Кто духом пал, тот скоро бы воскрес.
А для больных в нем были бы палаты,
Поправились бы все, в конце концов.
И я не брал самой низкой платы
За право жизни от своих жильцов.
Вы спрашиваете – который номер,
И улицу… Зачем Вам, Вы – богач.
Я не скажу. А полицейский – помер.
Бедняк – тебе же я скажу – не плачь.
Так я живу. О, что-то строят руки,
А что – не вижу, даже и во сне.
Не из-за бревен ли я близорукий.
Закрыв глаза, смотрю через пенсне.
«Ребенок, ушибившись, плачет…»
Ребенок, ушибившись, плачет
И трет синеющий ушиб,
Но что удар смертельный значит
Для тех, кто столько раз погиб,
А мать ребенка утешает
И на руки его берет,
Но что же значит боль большая
Для тех, кто столько раз умрет…
«Катушка ниток – шелковая бочка…»
Катушка ниток – шелковая бочка
Но я не пью и не умею шить.
Игла, пиши пронзающую строчку:
Как трудно шить, еще труднее жить.
Дрожит рука твоей ручной машины,
И ваши руки я поцеловал…
О, море, на тебя надеть бы шины,
Чтобы не громыхал за валом вал.
Катушка ниток заливает платье
Тончайшим белым шелковым вином, –
Ты говоришь – тебе за это платят…
Счастливая, ты здесь, а я в ином –
Материи нематерьяльный голос
О матери моей прошелестел…
Она любила, верила, боролась…
О, души голые одетых тел…
Прислушайся… Нет, то не грохот ветра,
То ветхий мир по дряхлым швам трещит.
Безмерна скорбь. Я не хочу быть мэтром.
И твой наперсток – мой последний щит.