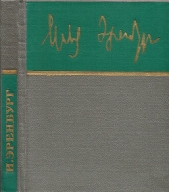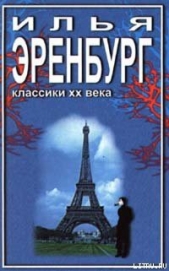Избранное
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Избранное, Эренбург Илья Григорьевич-- . Жанр: Поэзия. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.

Название: Избранное
Автор: Эренбург Илья Григорьевич
Дата добавления: 15 январь 2020
Количество просмотров: 557
Избранное читать книгу онлайн
Избранное - читать бесплатно онлайн , автор Эренбург Илья Григорьевич
В сборник вошли стихотворения, поэмы, переводы и драматургическое произведение известнейшего русского поэта XX века Ильи Эренбурга (1891–1967). Для широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перейти на страницу:
Когда Наденька кончила прогимназию,
Был большой праздник.
Маменька вынула чайный сервиз с розанами
(чего лучше),
Халвы купила и тянучек.
А Наденька купила себе корсет с голубыми
лентами.
Ишь!
Уж совсем, совсем Париж!
Некоторые неповторяемые комплименты…
«На тебя, Наденька, одна надежда…
Вот, может, заживу, как прежде…
Замучилась твоя мама…
Как бы ты поскорее того… замуж.
А то умру — ты не пристроена…
И всё такое…»
Маме —
«Я поеду на бал в офицерском собрании!..»
— «Ну, веселись, детка!
Приедешь, верно, голодная — я тебе оставлю
котлету…»
Бал в «Кукушке»,
И у душки
Веснушки.
А он влюблен,
И «шакон».
«В этом мире…»
— Ла-ра-ри-ре… —
«Изнывая…»
— Ла-ри-рая… —
А после повторял одно грустное,
Это древнее «люблю».
Где-то канарейка отвечала, почти что
по-французски:
«Лью-ю-ю!»
И было в этих «л» столько ливней ясных,
Столько еще не выплаканных слез…
И знала Надя — от этого часа
Не уйдешь…
Раскрасневшись от танцев,
Уже полюбившая, уже нелюбимая,
Она молилась с бокалом шампанского:
«Господи, пронеси эту чашу мимо!»
И напрасно в Божениновском переулке
Мама ждала до рассвета,
И напрасно в столовой стыла котлета…
Над своими птенцами, Рахиль, плачь!
Шибко, шибко несется лихач.
Кто-то сказал: «А, Иван Ильич, вы с
дамочкой».
И странно…
«Боярское подворье и гостиница Кастилия».
Где мы жили? Где мы были?
И молились?
И зачем?
Комнату… 47…
Вот она, любовная мука,
И в той же губке тот же уксус,
И тусклая свечка, и портьеры, и «любишь?»,
И где-то маятник,
И нищий, который отдает свои рубища,
Почти что улыбаясь.
На заре подошла Надя к окну,
Видит — пустая площадь,
Едет только извощик,
И сидит в пролетке голая баба,
И кушает виноград она,
И кричит извощику: «Поезжай живей!
Дам сотню!
Хочу въехать в рай в собственной плоти!»
И выбегают хорьки
И грызут пальцы на ногах бабы,
И воет баба от смертной тоски,
И радуется.
А извощик на козлах поет про то и про это,
Про Иосифа Благолепного,
Про сорок дней в пустыне, про легкое иго,
И как хорошо бы себя постегать вожжами,
И как он, Иван, юбки закидывал,
И как мылся в бане.
А хорьки подпевают: «Слава тебе, любовь,
Хлеб наш насущный!
Слава тебе, искушенная плоть!
Пуще! Пуще!
Вот, вот,
За коготок.
Ах, Амур
Любит педикюр!..»
Надя пала у окна белого,
Где-то половой гремел щеткой…
И не знала она, что претерпела
И сколько ей еще терпеть остается.
Только сырое небо и крыши,
И с улицы звуки всё чаще,
И в комнате легкое дуновение слышно
Другого, спящего…
«Ведь как же, Наденька… я не в укор,
ты понимаешь.
Но Петр Ефимович согласен, он теперь всё знает…»
И как поздравляли, и как целовали,
И после венчанья эти четверть часа на вокзале.
«Ну, по любви едва ли…»
«Вы хорошо будете спать в купе…»
«Спать?.. э-э!..»
«Без пересадки».
«Надя, ты забыла свои перчатки…»
И мама ее целовала неловко, зачем-то в ухо,
И глаза у нее были припухшие…
Кто-то крикнул, свистнул жалостно…
И не стало вот…
«Наденька,
Какая ты гладенькая!
И теперь все эти штучки мои…
И-и-и-и…»
Вспомнила Надя, как девочкой говорила маме:
«Не хочу играть с Саней!
Когда вырасту большая, выйду замуж
И буду дама».
И как мать бормотала: «Играй, играй, детка!»
И как она улыбалась жалостливо, редко…
А муж: «У тебя совсем миленький профиль…
Ты со мной не скучаешь?.. В Смоленске будем
пить кофе».
Надя вышла в коридор… Путь так долог…
Едут с ними тысячи проволок
И поют: «Подойди! Отойди!
Мы позади, и мы впереди!»
Взмолилась Надя: «За что ты?
Я не умею иначе, вот я…»
Подошел тогда господин в цилиндре:
«Простите, позвольте представиться — Кики.
Вы никогда не бывали в Индии?..
А там есть прелестные уголки…»
Пошли от господина лучи неистовые,
И совсем он, совсем близко.
И сказал ей еще: «Я тебе не простил
Моей обиды,
Иакова я возлюбил,
Исава я возненавидел…
Ибо ты преступила запреты,
И неугодна жертва твоя, —
Иду на человека
Я».
Муж всё хныкал: «Еще немножко!..
Ты устала, моя кошечка?»
И был поезда грохот:
«За что ты? за что ты?
За то и за это…
Моя и твоя…
Иду на человека
Я…»
Перейти на страницу: