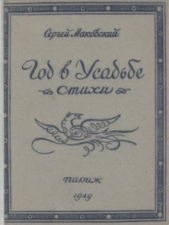Чужая весна

Чужая весна читать книгу онлайн
Вере Сергеевне Булич (1898–1954), поэтессе первой волны эмиграции, пришлось прожить всю свою взрослую жизнь в Финляндии. Известность ей принес уже первый сборник «Маятник» (Гельсингфорс, 1934), за которым последовали еще три: «Пленный ветер» (Таллинн, 1938), «Бурелом» (Хельсинки, 1947) и «Ветви» (Париж, 1954).
Все они полностью вошли в настоящее издание.
Дополнительно републикуются переводы В. Булич, ее статьи из «Журнала Содружества», а также рецензии на сборники поэтессы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но, несомненно, кое в чем из того, что выше говорилось, Д. Кнут повинен. Новая его книга, после его «Парижских Ночей» — срыв. Самое же главное в том, что Кнут как-то расслабился и расшатался, сузил свою тему — порой до частного, лишь ему интересного случая («разошлись, как разлюбившие друг друга люди»), и, по сравнению с прежними его стихами («Еврейские похороны», «Бутылка в океане» и т. д.), лирическое напряжение «Насущной Любви» слабеет.
Вторым существенным недостатком новой книги является как бы умышленно-небрежное отношение Кнута к языку. Не думаю, чтобы Кнут не замечал сам, насколько некоторые его эпитеты, рифмы или словообразования сопротивляются иногда даже духу языка. Говорить о бессознательных промахах здесь не приходится; мне кажется, что подобно тому, как многие поэты, наскучив плавным течением ямба, вводят паузы, перебои, стремятся иногда расшатать, нарушить размер, так и Кнут попытался умышленной резкостью некоторых эпитетов, грубым и сразу же бросающимся в глаза сопоставлением слов, подчеркнуть, выделить, создать какой-то фон, куда-то и к чему-то выйти. Он как бы пробует новую манеру письма — и срывается. Срывается потому, что внутренняя логика поэзии неотделима от формы. Всякое насилие над нею есть в то же время и уступка в главном, расслабление в форме — обнажает распавшееся целое и в поэзии.
Вот те возражения, которые Кнуту необходимо сделать. Но вместе с тем никакой срыв, никакое заблуждение не могут отнять у Кнута то, что у него есть — его искренность, его собственный голос, его музыку и способность к живому чувству. Многие стихи в «Насущной Любви» остаются кнутовскими стихами; в самых неудачных, наряду с тяжелыми срывами, есть прекрасные строфы или строки. Я совсем не склонен, как сделали некоторые критики, переоценивать значение неудачи «Насущной Любви». Лучшим доказательством случайности неудачи Кнута являются новые его стихи — из «Палестинского Цикла», недавно напечатанные в «Русских Записках»; в этих стихах Кнут — с безупречным вкусом, простотой и ясностью не только идет в своей прежней линии «Парижских Ночей», но и творчески ведет ее далее.
Книга В. Смоленского, вторая по счету, первая книга его, «Закат» вышла в 1931 году. Смоленский после «Заката», несомненно, вырос, нашел свою линию, очень поработал над культурой стиха, хотя именно в плоскости стилистической хотелось бы сделать ему некоторые возражения, к чему мы вернемся ниже.
Смоленский — один из тех поэтов «эмигрантского периода», которые сразу привлекли к себе общее внимание, вызывали надежды, ожидания.
Надо признать, что Смоленский надежды оправдал. Его прирожденный лиризм, его индивидуальный голос выдвигают его на видное место среди современных поэтов; стихи Смоленского звучат, у него есть напряжение чувства, человечность. Держась строго в пределах формальных, может быть, даже немного излишне стесняя себя «классицизмом», Смоленский не только «пишет стихи», но чувствуется, что поэзия от природы его стихия, чувствуется подлинность его волнения, темперамент, поистине, поэтический.
Настоящий поэт, в отличие от стихотворцев, порой формально очень одаренных, обладает верным инстинктом, направленным к существу жизни. Он не берет жизнь только на ее поверхности, но инстинктивно устремлен через нее внутрь, к существу, к внутреннему смыслу, — что и дает возможность через сюжет проникать к основной теме. Любовь, смерть, тоска, ощущение бессмыслицы жизни, возмущение плоскостью и низостью земного и острое чувство его недостаточности, порою — даже гражданское волненье — все у Смоленского просвечивает этим внутренним устремлением.
Однако для Смоленского есть некоторая опасность как в линии его тематики, так и в стилистическом отношении. Это, во-первых, некоторая склонность к декламации. Не то, что Смоленский умышленно становится в риторическую позу, но иногда в риторику он, помимо воли, соскальзывает. В линии «цыганской» также есть для Смоленского опасность стать слишком общедоступным, — нравиться тем, кому не надлежит нравиться. Наконец, в области стилистической ему мешает иногда слишком еще блестящая внешность, ровность и гладкость, пользование (теперь все реже и реже) условным реквизитом образов — ангелы, крылья, лиры и т. п. Не всегда убедителен он и в своем отчаянье и в своем неверии, которое, в конечном счете, не глубоко и не страшно. Но все перечисленные недочеты того порядка, от которых поэт, несомненно, в дальнейшем легко освободится. Книга Смоленского и отдельные его стихи, появившиеся в последнее время в разных изданиях, свидетельствуют о непрерывном развитии его лирического дарования, дарования подлинного и, на фоне эмигрантской поэзии, очень заметного.
Не могу сказать того же о Туроверове, несомненно талантливом и несомненно одаренном в стихотворном отношении. Стихи Туроверова — почти что хорошие стихи, если забыть то, что есть по ту сторону стихов, помимо образов и сюжетов, выраженных в хороших, звучных ямбах. Туроверов держится как-то в стороне от общей линии пути современной поэзии; у него есть темперамент, и сила, и внешняя выразительность. Но странно — просматривая книгу Туроверова, невольно вспоминаешь поэтов, находящихся по ту сторону границы, и чувствуешь, что больше, чем кто-нибудь из эмигрантских поэтов, Туроверов ближе к поэзии «советской». Эту поэзию (в которой много одаренных людей) резко отличает от нашей отсутствие испытания. Все, что есть в мире, все, что он сам чувствует, поэт должен проверять, испытывать, пробовать, как пробуют золото на пробирном камне. Это испытание, это сомнение как раз и дает поэзии тот особый звук, отсутствие которого нельзя скрыть. Читая, порой блестящие, стихи какого-нибудь советского поэта — Кирсанова, Брауна, Заболоцкого, испытываешь иногда даже досаду за них — «ну, как он может так писать?».
Эта примитивность, это «не подозревает», несмотря на очевидный талант, губит пока и Туроверова. Будем надеяться, что в дальнейшем в нем что-то сдвинется — данные же у него есть.
Новая книга Веры Булич «Пленный Ветер» — большой шаг вперед по сравнению с ее прежней книгой. Булич находит себя и свою тему, ее голос крепнет, самая манера ее письма определяется.
В смысле формальном нужно отметить композиционное дарование Булич, чувство меры и вкуса, сдержанность и равновесие, умение точно и просто распоряжаться словесным материалом. Благодаря этим качествам, книга Булич построена очень органично, это именно книга стихов, а не сборник случайных стихотворений. Отметим особо «Стихи о Дон-Жуане», «Стихи о счастье» и заключающие книгу белые стихи.
«Круг». 1938, № 3.
Георгий Адамович. Литературные заметки
«Наедине» В. Смоленского. — «Пленный ветер» Веры Булич. — «Строфы» Э. Чегринцевой.
«Он был счастлив, и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не о чем было плакать, но он готов был плакать. О чем? О прежней любви? О своих разочарованиях? О своих надеждах на будущее? Да и нет. Главное, о чем ему хотелось плакать, была вдруг живо сознанная им страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределенным, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам. Эта противоположность томила и радовала его…».
Тысячу раз цитировались эти слова, и все, вероятно, знают, откуда они: это князь Андрей слушает, как поет Наташа. А все-таки каждый раз, как вспомнишь их, — удивляешься! Нельзя точнее, проще и глубже определить то, что дает человеку искусство. И даже — полнее определить: всякое добавление к этой «страшной противоположности между чем-то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам», всякая догадка об источниках этой противоположности была бы спорна. Больше этого человек ничего не знает, и никогда не узнает. Больше этого он, по совести, ничего не в праве сказать. В конце концов, после длинного трактата о действии стихов или музыки на сознание, после какого угодно исследования о прекрасном мы неизбежно должны вернуться к толстовской формуле. Отчасти есть в ней и предостережение: не нажимайте романтические педали, не изменяйте природе человека, не воображайте, что вы дорвались туда, куда не дорветесь никогда, не кокетничайте своей сверх-поэтичностью или особым, благодатным безумием… Я, может быть, чересчур вольно толкую слова Толстого. Но весь его творческий опыт настолько с ним совпадает, что толкование напрашивается само собой.