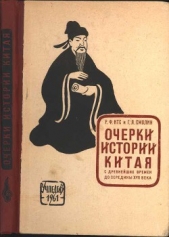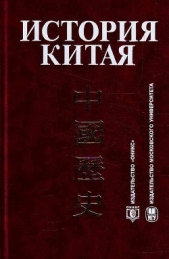Вьется улица трубкой коленчатой,
Но куда ей уйти от позора,
Если взят, обесчещен, как женщина,
Истомленный бомбежками город?
И какая-то подлость читается
На испуганных лицах прохожих.
Это новая жизнь начинается,
Ни на что не похожая.
1949
шанхай
О, как ей мечталось о музыке вечной
Шуршащего леса, привольного сада,
О благовесте с колокольни заречной,
О жаворонках, соловьях и цикадах.
Но родина встретила гулом завода.
Молчаньем зарубленных дедовских вязов,
Вопросом: «Как прожили вы эти годы?» —
Да шепотом сестриных страшных рассказов.
Покамест не надо… Пожалуйста, позже,
Когда переплетами стиснем страницы,
И все аккуратно по полкам разложим,
И сможем уже ничему не дивиться.
Тогда мы освоимся в смешанной стае
И слов, и ошибок, и всех недомыслий,
И, может быть, даже немного оттаем,
Как эти сосульки, что в окнах нависли.
Но нужно покамест в лубки бинтоваться,
И голову выше, что только есть силы,
Чтоб после, когда-нибудь, лет через двадцать
Привычное имя произносилось
Без боли… без стона… без лишней бравады,
Чтоб были стихи, как отреявший ладан:
«Я очень спокойна, но только не надо».
Барабанил по клавишам. О зачем эти руки боксера?
Каждый взмах — зуботычина. И казалось, что бедный Шопен
Обливается кровью. Но, случайная, с верткостью вора,
Серебристая нота над сыростью стен.
Музыкант не слыхал ее. Словно оглохший от грома,
Продолжал молотить — все равно ничего не поймут.
Обломалась педаль. Он вскочил. Он налил себе рому,
Отвернулся и плюнул: «Дурацкий прелюд!»
А душа-то болела. Болела по-русски, бешено.
Он с проклятьями трижды измерил прокуренный холл.
На рассвете кантонском, после ночи кромешной,
Узкоглазая девушка. Он ее называл China Doll.
Да и та не спасла. Пистолет или яд?
Ничего не известно. Не говорят.
Душный ветер траву колыхает сердито,
Пыль нависла над степью, как желтый туман.
Утомились и люди, и кони. Без свиты
Подъезжает к подножью горы богдыхан.
Вот он спешился. Вот повернулся он круто.
Он один, а над ним только небо и зной,
Но измученный конь понимает как будто,
Что хозяин ушел говорить с тишиной.
Тут
Раскаленные вихри жестокую землю метут,
Ту, что стала постелью твоей,
Ян Гуэй-фей.
Ян Гуэй-фей,
Помнишь лотосов чащи на темном пруду?
Помнишь нашу тропинку в дворцовом саду,
Там, где склоняется к водам узорный бамбук?
Твой парчовый рукав,
Башмачков твоих стук.
Блеск нарядных запястий?
Это — счастье,
Что нельзя возвратить, потеряв
Ян Гуэй-фей.
Ирис шепчет о ней, и воркуют свирели,
И бряцают о ней жемчуга ожерелий,
И зеленый нефрит
Говорит:
«Я люблю Ян Гуэй-фей».
Девять лет безмятежных неслышно пройдет,
Но раскроются настежь все девять ворот,
И однажды под гром барабана
Ты с постели подымешься рано.
В небе утреннем розово-синем
Развевается знамя павлинье.
Распахнулись все девять ворот,
Ты глядишь в пустоту,
И лицо твое снега бледней.
Почему ненавидит народ
Красоту
Ян Гуэй-фей?
У подножья высокой Омэ
Император как в тесной тюрьме.
Даже здесь, далеко в Сычуане
До дворца докатилось восстанье.
Отдохнуть.
Но возможен ли отдых?
Снова крики — все ближе, страшней.
Копья подняты в воздух,
И грозят они ей,
Ян Гуэй-фей.
Ян Гуэй-фей.
Это — брови, как листья у ивы,
Что тонки и красивы,
Это — пение арф.
Это — губ горделивый излом.
Это — шелковый шарф
Затянулся на шее узлом.
На руках у солдат бездыханное тело…
А хотела
Жить
Ян Гуэй-фей.
По земле расстилается тень,
В душном воздухе реет гроза.
И как в тот трижды проклятый день,
Богдыхан закрывает глаза.
1949
Сидел развалясь, он, веселый и пьяный,
Забывши о том, что нельзя и что можно.
Он крикнул: «Вина!» — на пиру богдыхана,
Ну словно в харчевне орал придорожной.
Придворная знать удивлялась нахалу.
Вниманьем охвачены взоры и уши.
Сама Ян Гуэй-фей для него растирала
На блюдце фарфоровом палочку туши.
Он снял сапоги и швырнул их, икая.
Забегала кисть по тончайшей бумаге,
И тишь воцарилась в палате такая.
Как по мановению грозного мага.
Красавица смотрит на руку, на свиток,
И рдеет в лице ее нежный румянец.
Ей пишет стихи Ли Тай-бо знаменитый,
Хоть первый из самых отчаянных пьяниц.
Он встал. Бородища — растрепанный веник.
Забрал сапоги и уходит с поклоном.
Не нужно ему ни почета, ни денег,
Соскучился он по просторам зеленым.
Однажды у речки, веселый и пьяный,
Забывши о том, что нельзя и что можно,
Он крикнул: «Луну!» — и с ковшом оловянным
Бултыхнулся в воду неосторожно.
Друзья удивлялись, жалея нахала:
«Он баловень жизни, народа и трона,
Сама Ян Гуэй-фей, отведя опахало,
Не раз улыбалась ему благосклонно».
Часами сидел он в харчевне, икая,
Швыряя монеты ребятам и нищим,
И сволочь его окружала такая,
Какой никогда и нигде не отыщешь.
Он сам уничтожил судьбы своей свиток,
С великими гордый, с презренными равный.
Чудесного дара огромный избыток
Не смог довести он до старости славной.
Плывет бородища — растрепанный веник.
Нет, рано еще говорить о поэте.
Бродягу и пьяницу знал современник,
Поэт Ли Тай-бо — это тысячелетьям.
1949
Шанхай