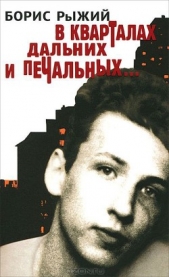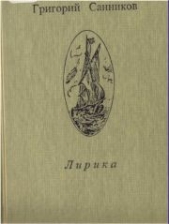Вдруг вспомнятся восьмидесятые
с толпою у кинотеатра
«Заря», ребята волосатые
и оттепель в начале марта.
В стране чугун изрядно плавится
и проектируются танки.
Житуха-жизнь, плывет и нравится,
приходят девочки на танцы.
Привозят джинсы из Америки
и продают за ползарплаты
определившиеся в скверике
интеллигентные ребята.
А на балконе комсомолочка
стоит немножечко помята,
она летала, как Дюймовочка,
всю ночь в объятьях депутата.
Но все равно, кино кончается,
и все кончается на свете:
толпа уходит, и валяется
Сын Человеческий в буфете.
1997
Красавица в осьмнадцать лет,
смотри, как тихо мы стареем:
всё тише музыка и свет
давно не тот, и мы робеем,
но всё ж идем в кромешный мрак.
Но, слышишь, музыка иная
уже звучит, негромко так,
едва-едва, моя родная.
Когда-нибудь, когда-нибудь,
когда не знаю, но наверно
окажется прекрасным путь,
казавшийся когда-то скверным.
В окно ворвутся облака,
прольётся ливень синеокий.
И музыка издалека
сольётся с музыкой далекой.
В сей музыкальный кавардак
войдут две маленькие тени —
от летней музыки на шаг,
на шаг от музыки осенней.
1997
Старик над картою и я
над чертежом в осеннем свете —
вот грустный снимок бытия
двух тел в служебном кабинете.
Ему за восемьдесят лет.
Мне двадцать два, и стол мой ближе
к окну и в целом мире нет
людей печальнее и ближе.
Когда уборщица зайдет,
мы оба поднимаем ноги
и две минуты напролет
сидим, печальные, как боги.
Он глуховат, коснусь руки:
— Окно открыть? — Вы правы, душно.
От смерти равно далеки
и к жизни равно равнодушны.
1997
…Три дня я ладошки твои целовал
и плакал от счастья и горя.
Три дня я «Столичной» хрусталь обливал
и клялся поехать на море.
Пари ла три дня за окошком сирень,
и гром грохотал за окошком.
Рассказами тень наводя на плетень,
я вновь возвращался к ладошкам.
Три дня пронеслись, ты расплакалась вдруг,
я выпил и опохмелился.
…И томик Григорьева выпал из рук,
с подушки Полонский свалился.
И не получилось у нас ничего,
как ты иногда предрекала.
И черное море три дня без меня,
как я, тяжело тосковало.
По черному морю носились суда,
и чайки над морем кричали:
«Сначала его разлюбила она,
он умер потом от печали…»
1997
Здорово, Александр! Ну, как ты там, живой?
Что доченьки твои? Как милая Наташа?
Вовсю ли говоришь строкою стиховой,
дабы цвела, как днесь цветет, поэзья наша?
…А я, брат, все ленюсь. Лежу на топчане.
Иль плюну в потолок. Иль дам Петру по роже.
То девку позову, поскольку свыше мне
ниспослано любить пол противоположный.
Не то, брат, Петербург, где князя любит граф.
В том годе на балу поручик Трошкин пальцем
мне указал на двух… И разве я не прав,
что убежал в село, решил в селе остаться?
И все бы благодать, да скучно! Вот сосед
трепался, что поэт. Наверное, бездарный.
Пожалуй, приезжай. Ах, мы с тобою лет
не виделись уж пять. Конюшни, девки, псарни,
борзые, волкода… Скажу, прекрасны все.
Вот — позабыл как звать — еще одну породу
сосед пообещал… Поедем по росе
на лучших рысаках на псовую охоту
в начале сентября. Тогда нарядный бор,
как барышня, весь ал от поцелуев влажных
тумана и дождя. Стоит, потупив взор.
А в небе лебеди летят на крыльях важных —
ну не поэзья ли? Я прикажу принять
тебя, мой Александр, по всем законам барства.
…Вернемся за полночь и сядем вспоминать
шальную молодость, совместное гусарство.
1997