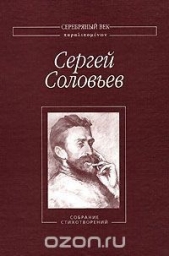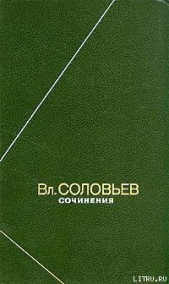Зачем зовешь к покинутым местам,
Где человек постом и тленьем дышит?
Не знаю я: быть может, правда там,
Но правды той душа моя не слышит.
Кто не плевал на наш святой алтарь?
Пора признать, мы виноваты оба:
Я выдал сам, неопытный ключарь,
Ключи его пророческого гроба.
И вот заветная святыня та
Поругана, кощунственно открыта
Для первого нахального шута,
Для торгаша, алкающего сбыта.
Каких орудий против нас с тобой
Не воздвигала темная эпоха?
Глумленье над любимою мечтой
И в алтаре — ломанье скомороха!
Беги, кому святыня дорога,
Беги, в ком не иссяк родник духовный:
Давно рукой незримого врага
Отравлен плод смоковницы церковной.
Вот отчего, мой дорогой поэт,
Я не могу, былые сны развеяв,
Найти в душе словам твоим ответ,
Когда зовешь в таинственный Дивеев.
Она одна, одна — моя любовь,
И к ней одной теперь моя дорога:
Она одна вернуть мне может вновь
Уже давно потерянного Бога.
X.В.М. КОВАЛЕНСКОМУ [137]
Зовет мое воображенье
Тебя, следящего движенья,
В лазури, белых голубей.
В лучах сиял их рой жемчужный.
Они, казалось, были дружны
С душою светлою твоей.
Вот, что воспеть всего приятней:
Под полусгнившей голубятней
На старом ясене доска,
И волны заревой прохлады
В саду, где плачущей дриады
Поет старинная тоска.
Прозанимавшись до обеда,
Ты строгий циркуль Архимеда
Сменял на лейку и уду.
Клевало плохо, и вдобавок
Ты всё вытаскивал пиявок…
Что было смеха на пруду!
Да, наша дружба стала явней:
Мы — два обломка стародавней
Полуразрушенной семьи.
И Гоголем, Аристофаном
Полны под вечер, за стаканом,
Остроты легкие твои.
Прими ж рифмованные дани,
Златых Тургеневских преданий
Хранитель добрый и простой.
На мнения людей не глядя,
Мы будем верны, милый дядя,
Заветам родины святой.
XI. А. Г. КОВАЛЕНСКОЙ [138]
Сквозь грезы зла, насевшие как пыль,
Сквозь сумрак дней, тревожных и печальных,
Встает одна пленительная быль,
Прекрасный сон годов первоначальных.
Всегда на страже строгой красоты,
Средь древних рощ, как древняя дриада,
Одна душою не стареешь ты,
Волшебница таинственного сада.
Люблю прийти в священный твой приют,
Заботы дня на время обесценив,
Где в розовом раю еще цветут
Нетленные Жуковский и Тургенев.
Как струны гармонической души,
Что год, что час между собой согласней.
Как полны мудрости, как хороши
Сердцам детей твои простые басни!
К твоим ногам недавно я принес
Больной души мучительные пени:
Текла весна вершинами берез,
Вдали сверкали ветхие ступени.
И понял я, взглянув на ясный лик,
Что с роком ты, как гордый бог, боролась,
Уча естеств таинственный язык,
Птиц, струй, цветов утешный внемля голос.
С тобой шептались струйка и звезда…
И Андерсен тебе любезен мудрый,
И летопись Дворянского Гнезда,
И нежный вздох Минваны златокудрой.
Теперь нежданно просветлел мой путь,
Трагедия приблизилась к развязке,
И я готов, как в оны дни, уснуть
Под музыку твоей волшебной сказки.
ЦВЕТНИК ЦАРЕВНЫ. Третья книга стихов. 1909–1912 [139]
Те spectem, suprema mihi cum venerit hora,
Те teneam, moriens, deficiente manu.
Tibullus. I
МАРИИ АЛЕКСЕЕВНЕ ОЛЕНИНОЙ-Д’АЛЬГЕЙМ преданно посвящаю
ПРЕДИСЛОВИЕ [140]
Разбирая мою книгу «Апрель»* (Русская Мысль, 1910 г. Июнь.), Валерий Брюсов, наряду с верными замечаниями и заслуженными мной упреками, высказал несколько таких, с которыми я отнюдь не могу согласиться. Оставить их без ответа с моей стороны могло бы значить одно из двух: или что я не дорожу критическим отзывом Брюсова, 2) или что я принимаю его упреки, как заслуженные. Но: 1) мнение Брюсова всегда мне дорого, как мнение моего любимого поэта и учителя, один тот факт, что после критики Брюсова я не только не перестал писать стихи, но даже решаюсь выступить с новым сборником, показывает, что не все упреки моего критика я принимаю как заслуженные. И к таким упрекам прежде всего отношу я упрек в том, что у меня «нет своего отношения к миру», «нет определенного миросозерцания», что я «неизвестно для чего повторяю евангельские сказания» и «развиваю в терцинах довольно наивные раздумия».
Позволю себе еще раз занять внимание Брюсова моими «раздумиями» (правда, не в терцинах, а в прозе) и коснуться существенного вопроса о поэтическом миросозерцании. Книга стихов не должна непременно являться выражением цельного и законченного миросозерцания. По большей части, книга стихов дает нам историю развития миросозерцания, его различные этапы.
Большой ошибкой было бы принимать за философское credo каждую отдельную мысль, заключенную в сборнике стихов. Книга стихов есть исповедь поэта, история его исканий, нахождений, ошибок, падений. Объединяет все отдельные мысли и переживания, заключенные в книге стихов, только единство сознания того, кто переживает, — поэта.