Том 8. Стихотворения, поэма, очерки 1927
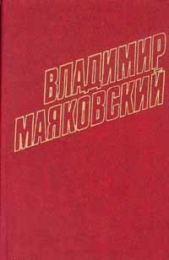
Том 8. Стихотворения, поэма, очерки 1927 читать книгу онлайн
Цель настоящего третьего по счету полного собрания сочинений — дать научно выверенный текст произведений Маяковского. В основу издания положено десятитомное прижизненное собрание (восемь томов были подготовлены к печати самим поэтом). В отношении остальных произведений принимается за основу последняя прижизненная публикация.
В восьмой том входят стихотворения 1927 года, поэма «Хорошо!» и очерки.
В данной электронной редакции опущен раздел «Варианты и разночтения».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чиновника тоже опровергли через дня три. Опровергли уже после того, как в официальной «Эпохе» его присутствие уже было распубликовано. Опровергли потому, что мой приезд совпал с отказом в визе путешествующему с лекциями Милюкову. И в газетах стали появляться грозные статьи: «Вместо Милюкова — Маяковский»; «Милюкову — нельзя, Маяковскому — можно», и т. д. и т. д.
Случай, конечно, юмористический.
В первый вечер я, конечно, встретился с самыми близкими нам и мне писателями. Это — Вандурский — прекрасный поэт и работник рабочего театра. На триста тысяч лодзинских пролетариев он один организовывает и ставит спектакли. Перед спектаклем он читает пролог из «Мистерии-буфф», потом — пьеса или инсценировка, от которой морщится польское начальство. У него отбирают помещения, у него уничтожают декорации, над ним висят аресты, но он твердо ведет свою работу.
Поэт Броневский. Выпустил только что книгу стихов. Названия его стихов говорят за себя: «На смерть революционера», «Пионерам», «Кабала» и т. д.
У него есть стихи «Провокатор» — это о жизни сегодняшней Польши. Он читал эти стихи в рабочем собрании. Когда он произнес строку: «Провокаторы ходят меж нами», какие-то субъекты испуганно поднялись и начали улепетывать из зала, на ходу разъясняя, что они-де не по своей воле. Это стихотворение хорошо рисует и Польшу, и Броневского, и рабочий быт.
Критик Ставер — близкий нашим конструктивистам.
Щука — художник-карикатурист; Жарновер — художница, график, обложечница, и другие.
Эта группа издает журнал «Дзвигня» — рычаг.
Мне дарят 1, 2, и 3 номера. Раскрываю. Первое бросается в глаза: «Родченко в Париже» — перевод на польский язык помещенных в «Лефе» писем *. Перевели и напечатали и за границей, и не только без всякого влияния, а, наоборот, с трудом доставая «Леф», вопреки Полонским улюлюканьям и статьям, ограждающим иностранный вкус от экспорта неэстетичных лефов к иностранцам.
Полонский, не хватайтесь за голову!
В Польше есть и люди диаметрально противоположные вам политически, но вашего эстетического вкуса.
Они гонят молодежь в Лувр, они радуются, когда Варшаву называют маленьким Парижем, они заводят у себя «неизвестного солдата», они говорят по-французски и читают французские романчики, — это позиция польских литературных государственников. Но ведь им за это Франция взаймы дает! Ведь им молодежь от Москвы отвадить * надо!
И вот, в противовес этим, переводят родченковские письма, дискредитирующие богатый древней культурой, но остановившийся Париж, зовущие использовать его технику, направляя ее коммунистической рукой.
Эти письма переиздаются не «Новой нивой», а левым журналом, потому что позиция «Лефа» — позиция всякой культурно-революционной силы.
Утром я перешел из крохотного номерка в номер за 19 злотых — для представительства. Было от чего. Я начал атаковываться корреспондентами, и карикатуристами, и фотографами *. Понятно. Я — первый поэт, приехавший из красной Москвы. Должен для беспристрастия отметить крайне корректный, предупредительный тон польской прессы. Неистовствовала только эмигрантская «За свободу», трубившая о въезде советского.
Интересным посетителем был председатель «Клуба» г-н Гетель. Этот, очевидно, умный и приятный человек взял сразу быка за рога и спрашивал меня по наиболее интересующим «пенов» статьям. А именно — сколько у нас платят, как мы застрахованы и что сделать, чтобы у нас оплачивались польские переводы.
Моя информация о результатах работы комиссии Совнаркома по улучшению писательского положения произвела на моего собеседника большее впечатление, чем сто агитаторов и целый коммунистический «университет».
Мои слова о приравнении писателя к трудящимся вызвали у Гетеля уныло-удивленную улыбку.
— А я и в профессиональный союз не записан — не к чему это нам. Как он меня защищать будет?
Г-н Гетель увел меня на парадный завтрак, данный в честь «вызванного духа». «Пен-клуб» вышел из неловкого положения, — он пригласил на завтрак только шесть человек — правление, да и то неполное. Этим завтраком с небольшими разговорами об авторском праве и закончилась моя встреча с официальными представителями польской литературы. Мы позавтракали и разошлись, «не причинив друг другу никакого вреда» (пользы — также).
Вечером — новый банкет широкого левого объединения.
Первым я увидел вдохновенно глядящего, поэтически трясущего руку поэта и переводчика моего «Облака в штанах» — «Облак в споднях» — Тувима. Белые газеты писали, будто я, получив перевод, сказал: «Наплевать мне на польскую литературу». Я немедленно опроверг чепуху. Пришел другой писатель и переводчик — Слонимский. Он перевел «Левый марш» и для уравновешения своих взглядов написал еще и свой марш. У меня: «левой, левой, левой», у него: «вверх, вверх, вверх», — этакий польский Шенгели *.
Я похвалил перевод «Левого».
Слонимский спросил опасливо о «вверх».
— За «вверх» пускай вас в Польше хвалят. Полеты Слонимского «вверх» кончились катастрофой. В дни моего пребывания в Варшаве была поставлена его пьеса *, не то «Вавилонская башня», не то «Геркулесовы столбы» — словом, из такого самого полета вверх.
На втором представлении театр был пуст.
Я виноват перед читателем за постоянные упоминания обедов! Но что поделаешь! Такова судьба официальных, полуофициальных и представительских поездок (моя, конечно, представительская). У меня был еще один грустный обед. Это — с моим переводчиком, уже упомянутым мною Тувимом.
Многие считают Тувима одним из самых лучших поэтов молодой Польши. Не зная языка — судить не берусь. Он переводил меня, очевидно, не из-за заработка. Какой заработок от книги в Польше, да еще от переводной, да еще с перевода одного из поэтов революции! Отношение его к моим стихам, очевидно, лирическое, и он решил, очевидно, посидеть час за обедом со своим собственным приятным воспоминанием. Он не ругал ни Польши, ни своего писательского положения, даже чуть похваливал своих перед иностранцем. Но именно в этом внезапно напущенном на себя, ни с чем остальным не гармонирующем свободословии было больше всего мотивов для жалости.
Ему, очевидно, нравилось бы писать вещи того же порядка, что «Облако в штанах», но в Польше и с официальной поэзией и то не просуществуешь, — какие тут «облаки»! Даже такие смирные, мифически потусторонние писатели, как одна из слав Польши — Пшибышевский *, влачат жалковатое существование. Правительственная субсидия какому-нибудь «маститому» злотых 800 в месяц (рублей 180) уже вызывает писательскую зависть.
Что же делать Тувимам? Тувимы пишут тексты для певиц и певцов варьете.
(Глупые скажут: «А сам про Моссельпром писал?» — Я про Моссельпромы хочу писать потому, что нужно. А ему для варьете и не нужно и не хочется.) И варьете прекрасно, если писать хоть немного «что хочешь».
Какое тут «хочешь», если такую польскую славу, как Жеромский *, и то перед смертью вызывали в дефензиву * с недоуменнейшим вопросом — как это ему в голову пришло написать такую революционную вещь? И Жеромский шел!
Правда — можно писать и против того, что видишь. Но тогда кто тебя будет печатать?
А если тебя отпечатает нелегально нелегальная коммунистическая партия — готов ли ты садиться в цитадель на четыре, на шесть, на восемь лет?
А кто сейчас в силах идти на этот героизм, кроме человека, принадлежащего к классу, верящему в победу коммунизма?





















