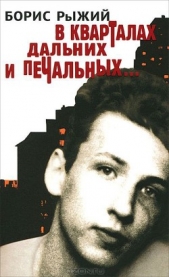Живет себе в Ялте прозаик,
сутулый и рыжий на вид.
Ему бы про рыб да про чаек,
а он про беду норовит.
Да это ж мучение просто,
как весь он тревогой набряк,
худущий да длинного роста,
смешной и печальный добряк.
Приучен войной к просторечью,
к тяжелым и личным словам,
он все про тоску человечью,
про судьбы содцатские вам.
Есть чудо — телесная мякоть
рассказа, где с первой строки
ты будешь смеяться и плакать,
и молча сжимать кулаки,
и с верой дурацкой прощаться,
и пить из отравленных чаш.
И к этому чуду причастен
прозаик чахоточный наш.
Он в Ялту приехал с морозца,
он к морю пришел наугад.
Удача ему не смеется.
Печатать его не хотят.
Я с ним не живал по соседству —
и чем бы порадовать смог
за то, что пришелся по сердцу
его невозвышенный слог?..
Мудрец о судьбе не хлопочет,
не ищет напрасных забот,
и сам продаваться не хочет,
и в спорах ума не пропьет.
Жена у него и сынишка,
а он свои повести — в стол,
до лучшего часа, и, слышь-ка,
опять с рыбаками ушел.
Он ходит по Крыму, прослыв там
у дельных людей чудаком,
не то доморощенным Свифтом,
не то за душой ходоком…
Житье непутевое это
пришлось бы и мне по плечу,
да темной судьбою поэта
меняться ни с кем не хочу.
1976
Ангел русской земли, ты почто меня гнешь и караешь?
Кто утешит мой дух, если в сердце печаль велика?
О, прости меня, Пушкин, прости меня, Лев Николаич,
я сегодня пою путеводную длань Ермака.
Бороде его — честь и очам его — вечная память,
и бессмертие — краю, что кровью его орошен.
Там во мшанике ночь и косматому дню не шаманить
над отшельничьим тем, над несбывшимся тем шалашом.
Отшумело жнивье, а и славы худой не избегло,
было имя как стяг, а пошло дуракам на пропой,
и смирна наша прыть, и на званую волю из пекла
не дано нам уплыть атамановой пенной тропой.
Время кружит в ночи смертоносно-незримые кружна,
с православного древа за плодом срывается плод.
Что Москва, что мошна — перед ними душа безоружна,
а в сибирском раю — ни опричников, ни воевод.
Две медведицы в лапах несут в небеса семисвечья,
и смеется беглец, что он Богу не вор и не тать.
Между зверем и древом томится душа человечья
и тоскует, как барс, что не может березонькой стать.
— Сосчитай, грамотей, сколько далей отмерено за день.
А что было — то было, то в зорях сгорело дотла.
Пейте брагу, рабы, да не врите, что я кровожаден,
вам ни мраку, ни звезд с моего кругового котла…
Мы пируем уход, смоляные ковши осушая,
и кедровые кроны звенят над поверженным злом.
Это — русские звоны, и эта земля — не чужая,
колокольному звону ответствует гусельный звон…
А за кручами — Русь, и оттуда — ни вести, ни басни,
а что деется там, не привидится злыдню во сне:
плахи, колья, колесы; клубятся бесовские казни,
с каждой казнью деньжат прибывает в царевой казне.
Так и пляшет топор, без вины и без смысла карая,
всюду трупы да гарь, да еще воронье на снегу,
и князь Курбский тайком отъезжает из отчего края,
и отъезд тот во грех я помыслить ему не могу.
Можно ль выстоять трону, сыновнею кровью багриму?
И на этой земле еще можно ль кого-то любить?
Льется русская кровь по великому Третьему Риму,
поелику вовеки четвертому Риму не быть…
А Ермак — на лугу, он для правнуков ладит садыбу,
он прощает врагу и для праздников мед бережет,
в скоморошьей гульбе он плюет на Малютину дыбу
и беде за плечами не тщится вести пересчет.
К Ермаковым ногам подкатился кедровый рогачик,
притулилась жар-птица, приластилась тьма из болот.
Ни зверью он не враг, ни чужого жилья не захватчик,
а из Божьих даров только волю одну изберет.
Под великой рекой он веселую голову сложит,
а заплачет другой, кто родится с похожей душой,
а тропы уже нет, потому что он сроду не сможет
ни обиды стерпеть, ни предаться державе чужой.
Из ковша Ермака пили бражники и староверы,
в белокрылых рубахах на грудь принимали врага,
а исполнив оброк, уходили в скиты и пещеры,
но и в райских садах им Россия была дорога.
Хорошо Ермаку. Не зазря он мне снился на Каме…
Над моей головой вместо неба нависла беда,
пали гусли из рук, расступается твердь под ногами,
но — добыта Сибирь, — и уже не уйти никуда.
1976