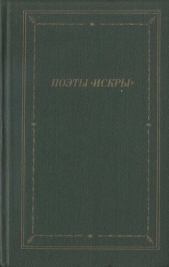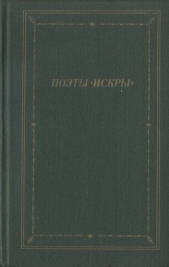Не всё ж смеяться нам… Находит иногда
На каждого из нас стих грустный, господа,
А не найдет, так жизнь сама тот стих подскажет,
Его с каким-нибудь печальным фактом свяжет
И если вырвет смех, то не веселый, злой,
Как в осень ветра стон, под непроглядной мглой
Тоскливо ноющий, нам в душу проникая…
Печальный свой рассказ начну издалека я.
В те дни, когда от сел до шумных городов
Очнулась наша Русь от сна, в конце годов
Пятидесятых, вдруг в кружках литературных
И в двух-трех органах, в то время подцензурных,
Но смелых, — с цензором в ладу жила печать,—
Писатель молодой вниманье обращать
Стал на себя. Ему успех сулили верный
Журналы тех времен, и — случай беспримерный! —
Сам Гончаров Иван, на похвалы скупой,
К нему благоволил. Закон судьбы слепой,
Однако, подшутил над бедняком жестоко,
И не сбылись слова газетного пророка,
Сплетавшего ему заранее венок
Лавровый. С климатом Невы бороться мог
Недолго молодой приятель мой Рахимов
(Я выбрал для него один из псевдонимов)
И, раздражительный до крайности, больной,
В хандре был принужден уехать в край иной
За новым воздухом живительным и светом.
Как жил, что делал там два года он — об этом
Не знал никто из нас. Как в воду канул он
И без вести пропал. Был сильно поражен
Печальной вестью я уже гораздо после,
Что он сошел с ума в Испании. Нашлось ли
Там несколько друзей у юноши? Какой
Отравой нравственной с безумною тоской
Он был сражен? Не мог о том сказать никто нам;
Узнали только мы, что там, под небосклоном
Толедо, он попал в больницу, как в тюрьму,
Где, верно, суждено окончить дни ему,
И что надежды нет уже на возвращенье Рассудка.
От души и полны сожаленья,
На родине друзья скорбели о судьбе
Собрата своего, но в будничной борьбе,
Где бьемся день за днем мы все теперь тревожно,
Воспоминаньями жить долго невозможно,
И постепенно был забыт и погребен
В гробнице памяти друзей живущих он.
Так два десятка лет промчались… Разве мало?
Достаточно нас всех помяла, истрепала
Жизнь, полная тревог, падений, горьких слез,
Обманутых надежд и оскверненных грез.
Ко многому привык наш мозг, наш глаз и ухо,
И старость, гадкая, развратная старуха,
Неумолимая, как голод, как нужда,
Уже подходит к нам… «Жизнь вечно молода!»
Но отвлеченное понятие такое
Иронии полно и не вернет покоя,
Когда при этом я — не правда ли, mesdames? —
Вам по наружности лет сорок с лишним дам,
Наживши в вас врага ужаснейшего сразу…
Однако возвращусь я к своему рассказу.
Рахимов был забыт, как я уже сказал,
Но вдруг случилось то, чего никто не ждал
И меньше всех врачи испанские в Толедо…
Где было знание бессильно, там победа
Осталась за одной природой. Прав Шекспир,
Что многое есть в ней, чего не может клир
Всех мудрецов понять. Больной, приговоренный
К безумью навсегда, при жизни погребенный
В больнице, ожил вдруг, и разом спала тьма,
Как пелена, с его дремавшего ума.
То было чудо, но все стихотворцы с жаром
Испанию зовут «страной чудес» недаром,
А факт вам налицо. Давно забытый друг
На родину спешил и, словно с неба вдруг
Иль, правильней сказать, как выходец из гроба,
Явился предо мной, но мы друг друга оба
Едва могли узнать, и радость встречи той
Смутила грусти тень. «О милый мой, постой,—
Твердил невольно я. — Да это, полно, ты ли?
Прощаясь, разве мы с тобой такими были?»
И в этом старике усталом и худом
Живого юношу я мог признать с трудом,
И только лишь глаза, хотя глубоко впали,
Нередко у него, как в юности, сверкали.
Но драма впереди еще его ждала,
Чего не мог тогда предвидеть я. Была
Большая разница меж им и всеми нами,
Которых он нашел покрытых сединами.
Мы шаг за шагом шли все эти двадцать лет,
Оставив за собой утрат печальный след;
Судьба не сразу нас, но исподволь ломала,
Нас жизнь по мелочам со многим примиряла,
И мы не делали в ней бешеных скачков,
А он слетел в наш мир как будто с облаков,
С мечтами прежними, с студенческим экстазом,
Все эти двадцать лет перешагнувши разом,
Начавши с лозунга: «Курган Малахов сдан!»
И кончив новостью: «Взят Карс и Ардаган».
Тогда его пришлось знакомить год за годом
С неведомым ему огромным периодом,
Сжав повесть длинную, состарившую нас,
В один эпический и бытовой рассказ.
Друг слушал, голову склонив и хмуря брови,
Всё делался бледней — в лице ни капли крови —
И наконец сказал: «Но было в наши дни
Немало крупных сил, талантов… Где ж они?
Да, где они, скажи? Не все же изменили
Прошедшему, не все еще лежат в могиле?
Я веру сохранил в людей, мне дорогих,
И, прежде чем спрошу тебя я о других,
Дай Добролюбова и Писарева адрес».
— «Они отправились…» — «Куда, зачем?» — «Ad patres [65].
Оплакали мы их, но в мире нет потерь
Незабываемых, и их у нас теперь
С успехом заменить успел Евгений Марков,
Переснявший всех, как посреди огарков
Друммондов яркий свет». — «Бессмертье заслужив,
Великий комик наш Мартынов, верно, жив?»
— «Жив… в памяти своих поклонников, дружище.
А сам давно лежит на городском кладбище
С Максимовым рядком, с Сосницким… Многих нет,
Которых он увел с собою в лучший свет
И никого взамен себя нам не оставил…
Но, впрочем, нет, у нас еще есть Вейнберг Павел,
При общем хохоте всех русских городов
Способный мастерски изобразить жидов».
— «Некрасов как живет, что пишет? В полной силе,
Надеюсь я, талант его богатый, или…
Боюсь спросить о том…» — «Он умер тоже, брат,
И уж о нем у нас почти не говорят.
Забыт и Курочкин покойный вместе с Меем.
Мы духу времени противиться не смеем
И в век промышленный биржевиков, дельцов
Совсем уже не чтим лирических певцов,
Давно их заменив продуктами грошовых
Стихотерзателей каких-то Барышевых,
Мартьяновых… имен не помню даже всех,
Чего, конечно, мне ты не поставишь в грех».
— «Да, почва невская, я вижу, нездорова…
Хоть Даргомыжского найду ли я, Серова?»
— «Увы, их тоже нет, но вздох свой затаи:
Маэстро Лазарев есть с Цезарем Кюи,
Который так у нас не терпит итальянцев,
Что со столбцов газет привык, как из-за шанцев,
Их грозно сокрушать как музыкальный страж».
— «Так кем же полон мир интеллигентный ваш?
Порадуй чем-нибудь меня хорошим, новым,
Дай „Современник“ мне последний с „Русским словом“».
— «Тебе их дать, мой друг, никак я не могу.
Вот „Берег“ почитай… Нет, нет, поберегу
Тебя на первый раз… Два толстые журнала,
Где прежде мы с тобой работали немало,
Уж стали редкостью, и их библиоман
Хранит в своем шкафу и переплел в сафьян.
Вот „Русский вестник“ ты везде найдешь покуда
И купишь дешево на рынке на вес, с пуда;
Но сам Катков сказать мог смело бы весьма:
„Теперь я, брат, не тот!“ как в „Горе от ума“,
И лишь с Цитовичем — судьба такая вышла —
Он вправе нынче стать под пару прямо в дышло».
— «А Помяловский где, Левитов и Слепцов?»
— «Всё там же, где и все, — у дедов и отцов.
Зато за шестерых, день каждый, без отдышки,
Стал Лейкин печь то очерки, то книжки
И так пришелся всласть, что уже с давних пор,
Поджав животики, ржет целый Щукин двор
От разных сцен его и очерков…» — «Довольно!
Пощады я прошу, тебя мне слушать больно…»
И быстро он ушел… Теперь он очень плох.
Смутил его контраст различных двух эпох,
Поставленных пред ним так беспощадно рядом,
И старый юноша, идеалист по взглядам,
Не ужился в среде, совсем чужой ему,
Дичиться начал всех, не ходит ни к кому
И часто, позабыв об отдыхе и пище,
Проводит целый день на Волковом кладбище,
Читая надписи крестов, могильных плит
И, потрясенный вновь, как доктор говорит,
От ломки нравственной поправится едва ли
И перейдет опять к безумью от печали.
1880