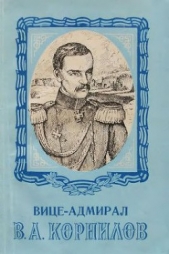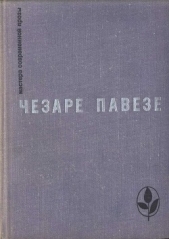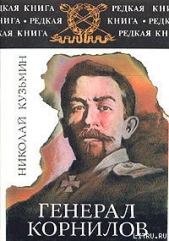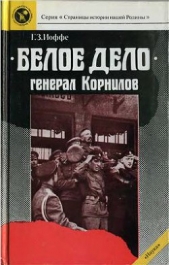Избранное
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Избранное, Корнилов Борис Петрович-- . Жанр: Поэзия. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.

Название: Избранное
Автор: Корнилов Борис Петрович
Дата добавления: 16 январь 2020
Количество просмотров: 614
Избранное читать книгу онлайн
Избранное - читать бесплатно онлайн , автор Корнилов Борис Петрович
Жизнь талантливого поэта Бориса Корнилова оборвалась в годы массовых сталинских репрессий, в 1938 году. Но его знаменитая жизнеутверждающая «Песня о встречном», положенная на музыку Д. Шостаковичем, продолжала звучать, правда, уже без упоминания имени автора слов… В эту книгу включены все поэмы, а также лучшие стихотворения Бориса Корнилова, многие из которых по праву входят в золотой фонд русской советской поэзии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перейти на страницу:
Конец атамана Зеленого
Вот и кончена песня,
нет дороги обману —
на Украине тесно,
и конец атаману.
И от Киева сила,
и от Харькова сила —
погуляли красиво,
атаману — могила.
По лесам да в тумане
ходит, прячется банда,
ходят при атамане
два его адъютанта.
У Максима Подковы
руки, ноги толковы,
сабля звякает бойко,
газыри костяные,
сапоги из опойка,
галифе шерстяные,
на черкеске багровой
серебро — украшенье…
Молодой,
чернобровый;
для девиц — утешенье.
У Максима Удода,
видно, та же порода.
Водки злой на изюме
(чтобы сладко и пьяно)
в общей выпито сумме,
может, пол-океана.
Ходит черною тучей
В коже мягкой, скрипучей.
Улыбнется щербатый
улыбкой кривою,
покачает чубатой
смоляной головою…
По нагану в кармане,
шелк зеленого банта —
ходят при атамане
два его адъютанта.
Атаман пьет неделю,
плачет голосом сучьим —
на спасенье надею
носит в сердце скрипучем.
Но от Харькова — сила,
Травиенко с отрядом,
что совсем некрасиво,
полагаю, что рядом
говорят хлеборобы:
— Будя, отвоевали… —
Нет на гадов хворобы,
да и будет едва ли.
Атаман льет вторую,
говорит: «Я горюю»,
черной щелкает плетью.
Неприятность какая —
переходит на третью,
адъютантов скликая.
— Вот, Удод и Подкова,
не найду я покоя.
Что придумать такого,
чтобы было такое.
Вместе водку глушили,
воевали раз двести,
вместе, голуби, жили,
умирать надо вместе.
Холод смерти почуя,
заявляет Подкова:
— Атаман…
не хочу я
умирать
бестолково.
Трое нас настоящих
кровь прольют, а не воду…
Схватим денежный ящик
на тачанку —
и ходу.
Если золота много,
у коней быстры ноги —
нам открыта дорога,
все четыре дороги…
Слышен голос второго,
молодого Максима:
— Всё равно нам хреново:
пуля,
петля,
осина…
Я за то, что Подкова,
лучше нету такого.
Тройка, вся вороная,
гонит, пену роняя.
Пристяжные — как крылья,
кровью грудь налитая,
свищет ярость кобылья,
из ноздрей вылетая.
Коренник запыленный.
Рвется тройка хрипящих —
убегает Зеленый,
держит денежный ящик.
Где-то ходит в тумане
безголовая банда…
Только при атамане
два его адъютанта.
Тихо шепчет Подкова
Максиму Удоду:
— Что же в этом такого?
Кокнем тихо — и ходу.
Мы проделаем чисто
операцию эту —
на две равные части
мы поделим монету.
А в Париже закутим,
дом из мрамора купим,
дым идет из кармана,
порешим атамана.
И догнала смешная
смерть атамана —
на затылке сплошная
алая рана.
Рухнул, землю царапая,
темной дергая бровью.
Куртка синяя, драповая
грязной крашена кровью.
Умер смертью поганою —
вот погибель плохая!
Пляшут мухи над раною,
веселясь
и порхая.
На губах его черных
сохнет белая пенка.
И рабочих из Киева
в бой повел Травиенко.
Вот и кончена песня —
нет дороги обману, —
и тепло,
и не тесно,
и конец атаману.
1933–1934
Триполье. — Впервые: «Молодая гвардия», 1934, № 1, с сокращениями. Печаталась главами: «Смена», 1933, 5 октября; «Юный пролетарий», 1933, № 20; «Литературный современник», 1933, № 10; «Звезда», 1933, № 11; «Красная звезда», 1934, 16 декабря. Впервые опубликована полностью: «Звезда», 1935, № 1.
Моя Африка
Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России.
Зима пришла большая, завывая,
за ней морозы — тысяча друзей,
и для нее дорожка пуховая
по улице постелена по всей,
не мятая,
помытая,
глухая —
она легла на улицы, дома…
Попахивая холодом,
порхая,
по ней гуляет в серебре зима.
Война.
Из петроградских переулков
рванулся дым, прозрачен и жесток,
через мосты,
на Зимний
и на Пулков,
на Украину,
к югу,
на восток.
Все боевые батальоны класса
во всей своей законченной красе
с Гвоздильного,
Балтийского,
Айваза,
с Путиловского,
Трубочного…
Все…
Они пошли…
Кому судьба какая?
Вот этот парень упадет во тьму,
и воронье, хрипя и спотыкаясь,
подпрыгивая, двинется к нему.
А тот, от Парвиайнена, высокий,
умоется водицею донской,
обрежется прибрежною осокой
и захлебнется собственной тоской.
Кто принесет назад пережитое?
Шинели офицерского сукна,
почетное оружье золотое,
серебряные к сердцу ордена
и славу, как военную награду,
что с орденами наравне в чести?..
Кому из них опять по Петрограду
знамена доведется понести?
И Петроград.
На вид пустой, хоть выжги,
ни беготней, ничем не занятой,
закрылся на замки и на задвижки,
укрылся с головою темнотой, —
темны дома,
и в темноте круглы
гранитные, тяжелые углы.
Как будто бы уснувший безобидно,
забытый всеми, вымерший до дна, —
и даже с Исаакия не видно
хоть лампой освещенного окна,
хотя б коптилкою,
хоть свечкой сальной,
хоть звездочкой рождественской сусальной.
Глаза не видят,
и не слышат уши,
он к темноте и ужасу прижат,
и лошадиные, раздуты, туши
на площадях и улицах лежат.
Пройдет, качаясь, по тропинке тонкой,
пугаясь,
спотыкаясь,
не дыша,
какой-нибудь замученный, с котомкой
в насиженное логово спеша.
Зима.
Война.
Метельная погода.
Все кануло в метелицу, во тьму…
Зимою восемнадцатого года
семнадцать лет герою моему.
Семнадцати —
еще совсем зеленым,
еще такого молоком корми —
он в документах значился
Семеном
Добычиным,
из города Перми,
учащийся…
Учащиеся…
Что ж в них!
И дабы не «учащимся» начать
«Учащийся» — зачеркнуто,
«Художник» — начертано…
Поставлена печать.
А на печати явственное — РОСТА.
Всё по закону.
Правильно и просто.
Предание времен не столь старинных
дошло до нас преградам вопреки,
что клеили под утро на витринах
плакаты красочные от руки.
Вернее, то была карикатура —
кармин и тушь,
и острое перо,
и подпись сочиненная, что
Шкура
фамилию меняет на Шкуро.
Или такая:
Гадину Краснова
Сегодня били деятельно снова.
Красноармеец шел, скрипя подсумком,
или в атаку конница пошла, —
под каждым обязательно рисунком
и подпись надлежащая была.
Все это вместе называлось — РОСТА.
Всезнающа,
насмешлива,
страшна…
Казалось, это женщина,
и роста,
пожалуй, поднебесного она.
Уж, кажется, не лирик,
не таковский,
а вот поди…
Сраженный наповал
любовью к ней,
покойный Маяковский
ей песни пел,
картины рисовал.
Ей видно все — на юге, на востоке,
ей понимать незнамо кем дано,
где у войны притоки и истоки,
где потушили,
где подожжено.
Она глядела золотым и бычьим
блестящим глазом через все века,
и для нее писал Семен Добычин
Краснова,
Врангеля
и Колчака,
красноармейца,
спекулянта злого,
того, другого, пятого, любого…
Он голодал.
Натянута на ребра,
трещала кожа.
Мучило, трясло.
И все она — сухая рыба, вобла,
все вобла — каждодневно, как назло.
Вот обещали — выдадут конины…
Не может быть…
Когда?..
Конины?..
Где?..
И растопить бы в комнате камины,
разрезать мясо на сковороде…
Оно трещало бы в жиру,
и мякоть,
поджаренная впору с чесноком,
бы подана была…
Хотелось плакать
и песни петь на пиршестве таком.
Ему уха приснилась из налима,
ватрушки, розоваты и мягки,
несут баранину неумолимо
ему на стол родные пермяки,
на сладкое чего-то там из вишен,
посудину густого молока
и самовар.
Но самовар излишен —
ну, можно меду —
капельку…
слегка…
Теперь заснуть — часов примерно на семь —
как незаметно время пробежит, —
он падает под липу ли,
под ясень,
и сон во сне уютен и свежит.
Но всё плывет —
деревья, песня… мимо,
не надо спать,
совсем не надо спать…
Вот кисточки
и блюдечко кармина —
опять работа,
оторопь опять…
Кармин ли?..
Не варенье ли?..
Добычин
попробовал…
Поганое — невмочь…
По-прежнему помчался день обычен —
а впрочем — день ли?
Может, вечер?
Ночь?
У нас темнеет в Ленинграде рано,
густая ночь — владычица зимой,
оконная надоедает рама,
с пяти часов подернутая тьмой.
Хозяйки ждут своих мужей усталых, —
они домой приходят до шести…
И дворники сидят на пьедесталах
полярными медведями в шерсти.
Уже нахохлился пушистый чижик,
под ним тюльпаны мощные цветут,
и с улицы отъявленных мальчишек
домой мамаши за уши ведут.
А ночь идет.
Она вползает в стены,
она берет во тьму за домом дом,
она владычествует…
Скоро все мы
за чижиком нахохлимся, уснем.
На дворнике поблескивает бляха,
он захрапел в предутреннем дыму,
и только где-то пьяница гуляка
не спит — поет, что весело ему.
Добычин встал.
И тонкие омыл он
под краном руки.
Поглядел в окно.
А ходики, тиктикая уныло,
показывали за полночь давно.
Знобило что-то.
Ударяло в холод,
и в изморозь,
и в голод,
и в тоску.
И тонкий череп, будто бы надколот,
разваливался,
падал по куску.
Потом пошел
тяжелым снегом талым, —
кидало в сторону, валило с ног,
на лестнице Добычина шатало,
но он свое бессилье превозмог.
Он шел домой.
Да нет — куда же шел он?
Дома шагали рядом у плеча,
и снег живой под валенком тяжелым
похрустывал,
как вошь,
как саранча.
Метелица гуляла, потаскуха,
по Невскому.
Морозить начало.
И ни огня.
Ни говора.
Ни стука.
Нигде.
Ни человека.
Ничего.
С немалыми причудами поземка:
то завивает змейку и венок,
то сделает веселого бесенка —
бесенок прыг…
Рассыпался у ног.
То дразнится невиданною рожей
и осыпает острою порошей,
беснуется, на выдумки хитра,
повоевать до ясной, до хорошей,
до радостной погоды,
до утра.
По всей по глади Невского проспекта
(Добычин увидал через пургу)
хлыстов радеет яростная секта,
и он в ее бушующем кругу.
Она с распущенными волосами,
она одна жива под небесами —
метет платками, вышитыми алым,
подскочит вверх,
и стелется опять,
и под одним стоцветным одеялом
его с собой укладывает спать.
И боги темные с икон старинных,
кровавым намалеваны,
грубы, —
туда же вниз.
На снеговых перинах
вповалку с ними божии рабы.
Скорей домой —
но улица туманна,
морозами набитая битком…
Скорей домой,
где теплота дивана,
и чайника, и воблы с кипятком…
Скорей домой —
но перед ним со стоном,
с ужимкою приплясывает снег…
Скорей домой —
и вдруг перед Семеном
огромный возникает человек.
Он шел вперед, тяжелый над снегами,
поскрипывая, грохоча, звеня
шевровыми своими сапогами,
начищенными сажей до огня.
Он подвигался, фыркая могуче,
шагал по бесенятам и венкам,
и галифе, лиловые как тучи,
не отставая, плыли по бокам.
Шло от него железное сиянье,
туманности, мечта, ацетилен…
И руки у него по-обезьяньи
висели, доставая до колен.
Он отряхался —
все на нем звенело,
он оступался, по снегу скользя,
и сквозь пургу ладонь его синела,
но так синеть от холода нельзя.
Не человек, не призрак и не леший,
кавалерийской стянутый бекешей.
Ремнями светлыми перевитая,
производя сверкание и гром,
была его бекеша золотая
отделана мерлушки серебром.
За ним, на пол-аршина отставая,
не в лад гремела шашка боевая
нарядной, золоченою ножной,
и на ремнях, от черноты горящих,
висел недвижно маузера ящик,
как будто безобидный и смешной.
Он мог убить врага
или на милость
махнуть рукой:
иди, мол, уходи…
Он шел с войны,
война за ним дымилась
и клокотала бурей впереди.
Она ему навеки повелела,
чтобы в ладонь,
прозрачна и чиста,
на злой папахе, сломанной налево,
алела пятипалая звезда.
Он надвигался прямо на Семена,
который в стены спрятаться не мог,
вместилище оружия и звона,
земли здоровье, сбитое в комок.
Казалось, это бредовое —
словом,
метель вокруг ходила колесом,
а он откуда выходец?
С лиловым,
огромным, оплывающим лицом…
Глаза глядели яростно и косо,
в ночи огнями белыми горя,
широкого, приплюснутого носа
пошевелилась черная ноздря.
И дернулась, до десен обнажая
все зубы белочистые, губа
отпяченная,
жирная,
большая,
мурашками покрыта и груба.
Он шел вперед,
на памятник похожий,
на севере,
в метели,
чернокожий…
Как тучу пронесло перед Семеном,
и охватило жаром и зимой,
и оглушило грохотом и звоном,
и ослепило золотом и тьмой…
Метель шумела:
— Мы тебя уложим,
постель у нас мягка и хороша…
А он глядел вослед за чернокожим,
в пургу,
не понимая, не дыша…
Хотел за ним —
а ноги как чужие…
Душило…
Надавило на плечо
и стыло,
стыло,
стыло в каждой жиле,
Потом и хорошо, и горячо…
Текут моря —
и вот он, берег дальний,
где отдохнуть от горести не грех, —
мы ляжем под кокосовою пальмой,
я принесу кокосовый орех…
Усни, усни…
Неправда, не пора ли
забыть… Уснуть…
Все хорошо вдали…
Виденья перепутались, и врали,
и понесло.
Добычина спасли —
его полуживого подобрали
и сразу же в больницу увезли.
Тяжелый год — по-боевому грозный, —
он угрожал нам тучею-копной,
он подбирался, дикий и тифозный,
и зажигал, багровый и сыпной.
Курносая была, пожалуй, рада,
насытилась на несколько веков, —
от Киева почти до Петрограда
поленницы лежали мертвяков.
Был человек — уснул,
глядишь — не дышит…
И ни за что — костей охапка, хлам…
Температура за сорок
и выше,
и разрывало сердце пополам.
Завалены больницы до отказа,
страна больная — подчистую, сплошь, —
по ней ползет кровавая зараза,
тифозная, распаренная вошь.
На битву с нею —
люди на дозорах,
земля лежит могилою — дырой —
замучена.
Температура сорок.
И за сорок.
И пахнет камфарой.
Добычина четвертая палата
совсем забита —
коек пятьдесят.
Тесемочки кофейного халата
не шелохнутся —
мертвые висят.
Запахло сукровицей.
Воздух спертый.
И, накаляя простынь добела,
опять огонь гуляет по четвертой
(четвертая предсмертная была).
Такой жары,
такого горя — вдоволь…
За что меня?
Ужели не простят?
Несет, качает в темноте бредовой,
и огненные обручи свистят —
про горький дым,
слепящий нас навеки,
про черную, могильную беду,
про то, что мало жизни в человеке…
И чудится Добычину в бреду:
текут пески куда-то золотые,
кипящие,
огнями залитые,
ни темноты,
ни ветра,
ни воды,
ни свежести, хоть еле уловимой,
и только в небо красное лавиной
ползет песок, смывая все следы.
Застынь, песок…
Остановись…
Не мучай
жарой, переходящею в туман…
Вот по песку,
по Африке дремучей,
цепочкой растянулся караван.
Курчавы негры,
кожа, вся лилова.
На неграх стопудовые тюки —
они идут, не говоря ни слова,
темны,
широкоплечи,
высоки.
Их сотни три,
а может, меньше — двести…
Неважно сколько…
Главное — все вместе
носильщики,
как лошади они…
Куда идут?
На негров непохожи,
обуты в сапоги шевровой кожи,
одетые в бекеши и ремни.
Жарки кавалерийские рубахи,
клокочет сердца пламенный кусок,
тесны ремни,
и тяжелы папахи,
и шпоры задевают за песок.
Песок мерцает, шпорами изрытый,
и негры тонут в море золотом…
Широкополой шляпою покрытый,
погонщик белый гонит их кнутом.
Все завертелось в дикой карусели,
а негры вырастают из песка, —
на них тюки, как облака, осели,
на них папахи, словно облака,
ремни скрипучи,
сапоги скрипучи,
по-львиному оскалены клыки,
и галифе лиловые, как тучи,
и лица голубые велики,
и, падая
и снова вырастая,
хрипят, а дышат пылью золотой —
их всех несет жары струя густая
по Африке, огнями залитой.
Песок течет, дымясь и высыхая,
тюками душит,
солнце пепелит,
и закружилась Африка глухая,
ни жить, ни петь,
ни плакать не велит.
За что такая страшная расплата?
Добычин бредит неграми, жарой…
Открыл глаза —
четвертая палата,
сиделка дремлет,
пахнет камфарой.
На столике стакан воды отварной…
Немного воздуха,
глоток питья —
и снова бестолочь
и дым угарный,
и, может, полминуты забытья.
И снова в мира грохота и воя
живет каким-то ужасом одним —
опять одно и то же бредовое,
огромное,
и гонятся за ним.
Он падает, Добычин,
уползая
в кустарники колючие…
Рывком
за ним летит пятнистая борзая,
и по земле волочит языком,
и нюхает.
Брыластая,
сухая,
с тяжелым клокотанием дыша,
глазами то горя,
то потухая,
найдет его звериная душа.
Нашла его.
Захохотала хрипло,
залаяла собачья голова…
Язык висит,
а на язык прилипла
какая-то поганая трава.
Глядит в глаза.
Несет невыносимой,
зловонной,
тошнотворной беленой —
вонючее, как трупное, —
и псиной.
Нельзя дышать.
И брызгает слюной.
Ужели жизни близко увяданье?
Погибель непонятна и глупа,
и на собачье злобное рычанье
бежит осатанелая толпа.
Уже алеет небо голубое,
все жарче солнечное колесо,
и вяжут белокурые ковбои
Добычина волосяным лассо.
Его волочат по корням еловым
и бьют прикладами наперебой,
он — не Добычин,
он — с лицом лиловым,
с отпяченной и жирною губой.
Он африканец, раб и чернокожий,
он — бедный трус,
а белые смелы…
Он кожею на белых непохожий,
и только зубы у него белы.
И волосы тяжелые курчавы,
на кулаки его пошел свинец,
под небом Африки его начало,
и здесь, в Америке, его конец.
Покрыто тело
страха острым зудом,
прощай, земля…
Его зовут: идем!
Ведут судить
и судят самосудом —
и судят Линча старого судом.
За то, что черен —
по причине этой…
И он идет —
в глазах его круги, —
в бекешу золотистую одетый,
в шевровые обутый сапоги.
Нога болит —
портянкой, видно, стерта,
немного жмут нагрудные ремни,
застегнута на горле гимнастерка;
ему велят:
— Скорее расстегни… —
Петля готова.
Сук дубовый тоже,
наверно, тело выдержит —
хорош.
И вешают.
И по лиловой коже
еще бежит веселой зыбью дрожь.
В последний раз
сквозь листья вырезные,
дубовые,
сквозь облака сквозные
в небесную глядит голубизну,
где нет людей
ни черных
и ни белых,
где ничего не знают о пределах,
где солнце опускается ко сну.
Но петля душит…
Воздуха и света!
Оставьте жить!..
И нет земли у ног,
и каплют слезы маленькие с веток,
кругом темно,
и хрустнул позвонок…
За что такая страшная расплата?
Добычин бредит неграми, жарой…
Открыл глаза —
четвертая палата,
сиделка дремлет,
пахнет камфарой.
Недели две Добычина носила,
кружила бесноватая, звеня,
сыпного тифа
пламенная сила
по берегам безумья и огня.
Недели две боролась молодая
Добычина старательная плоть
с погибелью,
тоскуя, увядая,
и все-таки хотела побороть.
Недели две — две вечности летели,
огромные,
пылающие,
две…
Всё Африка,
всё негры,
всё метели
в больной его кружились голове.
И этот бред
единый образ выжег,
соединил, как цельное, в одно
все, что Добычин
вычитал из книжек,
из «Дяди Тома хижины» давно.
И только негры.
Будто для парада,
прошли перед Добычиным они,
обутые в шевровые —
что надо…
Одетые в бекеши и ремни.
В кавалерийских, шерстяных рубахах —
все было настоящее добро:
оружие
и звезды на папахах,
кавказское на саблях серебро.
И, всем понятиям противореча,
прошли они тяжелою стеной,
по-видимому, та ночная встреча
была тому единственной виной,
когда в тифу,
в дыму,
в буране резком
он шел домой
и чувствовал: горю…
И встретил негра,
(верить ли?)
на Невском,
одетого, как выше говорю.
Знать, потому
и не было покоя
Добычину и за полночь,
и в ночь,
хотя, по правде,
зрелище такое,
пожалуй, и здоровому невмочь.
На самом деле —
ночью,
в Петрограде,
в метелицу
(запомнится навек),
в бряцающем,
воинственном наряде
громадный
чернокожий человек.
(У нас в России —
волки,
снег
и Волга,
дожди растят мохнатую траву,
леса…)
Добычин
сомневался долго,
что он такое видел наяву.
До самой выписки из лазарета
станковая,
цветиста,
тяжела,
молниеносная картина эта
в его воображении жила.
Чем ближе дело шло к выздоровленью,
надоедали доктора, кровать,
по твердому душевному веленью
он знал, что — буду это рисовать,
что скоро… скоро…
Через две недели
я нарисую эту,
хоть одну,
про негра, уходящего в метели,
в Россию сумрачную,
на войну.
Он вышел из больницы.
Стало таять.
Есть теплота в небесной синеве.
Уже весна,
как раньше, золотая
и полыньи всё шире на Неве.
Все зимнее и злое забывая,
весна, весна —
как весело с тобой!
И хлюпает,
и брызжет мостовая,
и все же хорошо на мостовой.
Опять гадаю о поездке дальней
до берегов озер или морей,
о девушке моей сентиментальной,
о самой лучшей участи моей.
Веду свою весеннюю беседу
и забываю, льдинками звеня,
что из-за лени к морю не поеду,
что разлюбила девушка меня.
Окраина,
Московская застава —
бревенчатые низкие дома,
тиха, и молчалива, и устала,
а почему — не ведаешь сама.
Березы машут хилыми руками.
Ты счастья не видала отродясь,
кисейной занавеской и замками,
стеной ото всего отгородясь.
Вся в горестных и сумеречных пятнах,
тебе бы только спрятаться скорей
от непослушных,
злых
и непонятных,
веселых сыновей и дочерей.
Без боли,
без раздумий,
без сомненья,
не плача,
не жалея,
не любя,
без позволенья
и благословенья
они навек уходят от тебя.
У них любовь и ненависть другая,
а ты скорби
и скорби не таи,
и, лампой керосиновой моргая,
заплачут окна серые твои.
Здесь каждый дом к несчастиям привычен,
знать, потому печален и суров,
и неприветлив…
И когда Добычин
пришел сюда в один из вечеров —
на лестнице все так же
сохнет веник,
видна забота,
маленький покой,
опять скрипят четырнадцать ступенек,
качаются перила под рукой.
Он постучал.
— Елена дома?
— Дома. —
Крюки и цепи лязгнули, спеша.
— Елена, здравствуй!
— В кои веки… Сема…
Где пропадал, пропащая душа?
Пел самовар хвалебную покою,
что тот покой — начало всех начал,
и кот ходил мохнатою дугою
и коготками по полу стучал.
Мурлыкая, он лазил на колени,
свивался в серебристое кольцо…
Опять Елена…
(Впрочем, о Елене.
Она в рассказе новое лицо.)
Шестнадцать лет.
Но плечи налитые,
тяжелые.
Глаза — как небеса,
а волосы до звона золотые,
огромные —
до пояса коса.
Нездешняя, какая-то лесная,
оборки распушились по плечам,
и непонятная.
Почем я знаю,
какие сны ей снятся по ночам,
какие песни вечером тревожат,
о чем вчера скучала у окна.
Да и сама она сказать не может,
какая настоящая она?
Вы все такие —
в кофточках из ситца,
любимые, —
другими вам не быть, —
вам надо десять раз перебеситься,
и переплакать,
и перелюбить.
И позабыть.
И снова, вспоминая,
подумаешь,
осмотришься кругом —
и все не так,
и ты теперь иная,
поешь другое,
плачешь о другом.
Все по-другому в этом синем мире,
на сенокосе,
в городе,
в лесу…
А я запомню года на четыре
волос твоих пушистую лису.
Запомню все, что не было и было.
Румяна ли? Румяна и бела.
Любила ли? Пожалуй, не любила,
и все-таки любимая была.
Шестнадцать лет.
Из Петрограда родом.
Смешные стоптанные каблуки.
Служила в исполкоме счетоводом
и выдавала служащим пайки.
Стрельба машинки.
Льется кровь — чернила —
зеленая,
жирна и холодна…
Своих родных она похоронила,
жила, скучала, плакала одна.
Но молодости ясные законы
(она всегда потребует свое), —
и вот они с Добычиным знакомы,
он провожает до дому ее,
он говорит:
— Я нарисую воздух,
грозу,
в зеленых молниях орла —
и над грозою,
над орлом,
на звездах
чтобы моя любимая была.
Я нарисую так, чтоб слышно было —
десятый вал прогрохотал у скал,
чтобы меня любимая любила,
чтобы знамена ветер полоскал.
Орел разрушит молний паутину,
и волны хлещут понизу, грубы…
И скажут люди, посмотрев картину,
что то изображение борьбы,
что образ мой велик и символичен:
Перейти на страницу:
Рекомендуем к прочтению
Комментариев (0)

Опасные игры (СИ)

Печать Смерти (СИ)

Начало пути (СИ)

Месть (СИ)

Я помню (СИ)

Встреча (СИ)

Афiцыянтка

Ребро жестокости (СИ)

Введение в электронику

Retreat (СИ)

Наукоград:авария (СИ)

Белый Лис. Книга вторая (СИ)

Смущение. Часть 1 (СИ)

Культурист. Шахматы. Сфинкс (СИ)

Два одиночества (ЛП)

Откуда счет ступеням (ЛП)

Лекарство от здоровья (ЛП)

Довольно долго (ЛП)

Велико его терпенье (ЛП)

Мотылек и Темнота (ЛП)