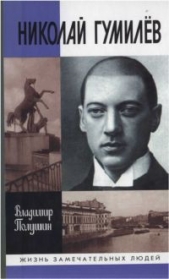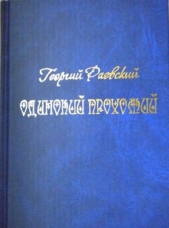Есть Россия Курбского и Герцена,
Та, что и у нас теперь на сердце, на
Совести: мы деспотам — враги,—
Но в стране, где воля Иоаннова,
Николая или же Ульянова,
Разве только не видать ни зги?
Там ведь столько эмигрантов внутренних,
Сколько в полумгле лучей предутренних
В час, когда вот-вот вскричит петух…
Здравствуй, подколодная, подпольная,
Под личиной злобы сердобольная,
Твой не угасает дух!
«О родине любимой и свободной,
Которую я воин, и поэт,
И многие изгнанники бесплодно
Надеялись увидеть…» Сколько лет
От наших дней то время отделяет!
Где люди те; и где надежды их,
Но кажется, они благословляют
Еще, сейчас изгнанников других.
Как все это знакомо, как похоже,
Как странно повторять урок чужой
И утешения искать того же
Не на земле, а где-то над землей.
Сегодня у Запада нет костяка.
Есть боль, между прочим и наша.
Сюда занесенная нами тоска
Поет и за них сквозь века и чека:
«Да минет меня эта чаша!» …
Все шире и горше той чаши края…
«Пускай же исполнится воля Твоя!»
Мы знаем: вселенная потрясена,
Как некогда после распятья,
И третья война — огневая волна
(Огонь и обряд водосвятья)
Встает, ничего не жалея, со дна,
Но прежде, чем мир уничтожит она,
Огромная преобразится страна,
Где жили пророки-гиганты,
И новое даст направленье тому,
Что ныне катится в подземную тьму.
Не это ли мы, эмигранты,
Мы сопротивленья усилье и гнев
Готовим, страдания преодолев.
Россия Пушкина, твоею славой
Пронизана сегодня вся земля,
Но спорить, как ты спорила с Варшавой,
Нет права у Кремля.
Была и ты бессмысленно сурова,
И вместо нет — ты говорила да,
Но имя вешателя Муравьева.
Запомнила, краснея от стыда…
Й были те народные витии —
Чей крик негодованья все же благ —
Врагами николаевской России.
А пушкинской, свободной, кто же враг!
Но слишком очевидно фарисейство:
Не оправдать свободы палачей —
Несовместимы гений и злодейство.
Поэтами рождаются, но дельным
Хозяевам, фортуны господам,
Труд неоплатный кажется бесцельным,
Они стихи прощают чудакам.
А те уже поют: когда б не наша мука,
Чего бы стоила вся ваша суета,
Ведь о живых сердцах не говорит наука
Того, чем музыка одна лишь занята.
Но острый карандаш приносит счетоводу
Уверенный доход, а мы для наших жен
Не вымолили бы у целого народа
Кусочек сахару, чтоб меньше был урон,
Который мы, служа невыгодным богиням,
Приносим день за днем и самым дорогим,
И самым трепетным на свете героиням.
И разве вы обязаны не им
Всей Славой чистоты и вещего смятенья
Когорты звучных строф,
Когда не вынесший пренебреженья
Слагатель их не быть готов?
Тогда над цифрами прихода и расхода,
Над всем, что пишется для пользы там и тут,
Слова, чья цель насквозь иного рода,
Останутся: их вознесут.
Мы, как избранники библейские, могучи
В ничтожестве и нищенстве порой,
А ваши истины житейские колючи,
Как проволока в зоне боевой.
Вольны и мы вас презирать: вы сыты
Не только хлебом — властью, но какой?
Нас любят, вас должны терпеть, мы квиты,
Вы деньги копите, мы — опыт вековой.
Священники, чей храм — земля со всем, что живо,
Громоотводами от мировой тоски
Мы быть должны, и мы не учим жить красиво,
Как говорят о музах ваши пошляки.
От обращения с тончайшими из ядов,
Мы сами едкие и временных подруг
Не очень радуем, но клад из кладов —
Единую любовь находим вдруг.
И воплощенное она противоречье
Всему, за чем практический расчет:
Ей наше дорого увечье,
Наш в муках бедности над временным полет.
И как, отомщены мы, парии, царицей,
Пренебрегающей для одного из нас
Надменных баловней всей вереницей,
Но горек наш победы час.
Особенный венок: лавровый, но с шипами,
Ей на чело надев трагической рукой,
Мы поменялись бы впервые с вами
Избранничеством и судьбой.
И вот когда вы нам должны бы, торжествуя,
Такую отповедь произнести:
«Ну что ж, попробуйте из слов и поцелуя
Дворец своей любви священной вознести.
Она горит в лишениях, в чахотке,
И сам ее певец сто раз изменит ей…»
Нет спора, господа, вы правы, и красотки,
Вас обстающие, конечно же, хитрей
Суровой красоты, надменно-неподкупной,
Которая наш крест, не дрогнув, понесла,
Чтоб о своей любви, воистину преступной,
Тем слаще пел фанатик ремесла.