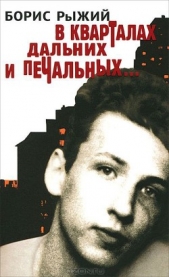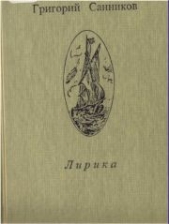В те баснословнее года
нам пиво воздух заменяло,
оно, как воздух, исчезало,
но появлялось иногда.
За магазином ввечеру
стояли, тихо говорили.
Как хорошо мы плохо жили,
прикуривали на ветру.
И, не лишенная прикрас,
хотя и сотканная грубо,
жизнь отгораживалась тупо
рядами ящиков от нас.
И только небо, может быть,
глядело пристально и нежно
на относившихся небрежно
к прекрасному глаголу жить.
1997
Ни в пьянстве, ни в любви гусар не знает меру,
а ты совсем не пьешь, что свыше всяких мер.
…Уже с утра явлюсь к Петрову на квартеру —
он тоже, как и ты, гвардейский офицер.
Зачем же не кутить, когда на то есть средства?
Ведь русская гульба — к поэзьи верный путь.
Таков уж возраст наш — ни старость и ни детство —
чтоб гаркнуть ямщику: пошел куда-нибудь!
А этот и горазд: «По-о-оберегись, зараза!» —
прохожему орет, и горе не беда.
Эх, в рыло б получил, да не бывать, когда за
евонною спиной такие господа.
Я ж ямщика тогда подначивать любитель:
зарежешь ли кого за тыщу, сукин сын?
Залыбится, свинья: «Эх, барин-искуситель…»
Да видно по глазам, загубит за алтын.
Зачем же не кутить, и ты кути со мною,
единственная се на свете благодать:
на стол облокотясь, упав в ладонь щекою,
в трактире, в кабаке лениво созерцать,
как подавальщик наш выслушивает кротко
все то, что говорит ему мой vis-а-vis:
«Да семги… Да икры… Да это ж разве водка,
любезный… Да блядей, пожалуй, позови…»
Петрову б все блядей, а мне, когда напьюся,
подай-ка пистолет, да чтоб побольше крыс
шурашилось в углах. Да весь переблююся.
Скабрезности прости. С почтеньем. Твой Борис.
1997
До утра читали Блока,
Говорили зло, жестоко.
Залетал в окошко снег
с неба синего как море.
Тот, со шрамом, Рыжий Боря.
Этот — Дозморов Олег —
филолог, развратник, Дельвиг,
с виду умница, бездельник.
Первый — жлоб и скандалист,
бабник, пьяница, зануда.
Боже мой, какое чудо
Блок, как мил, мой друг, как чист.
Говорили, пили, ели.
стоп, да кто мы в самом деле?
Может, девочек позвать?
Двух прелестниц ненаглядных
в чистых платьицах нарядных,
двух москвичек, твою мать.
Перед смертью вспомню это,
как стояли два поэта
у открытого окна:
утро, молодость, усталость.
И с рассветом просыпалась
вся огромная страна.
1997
Мальчик пустит по ручью бумажный
маленький кораблик голубой.
Мы по этой улицы однажды
умирать отправимся гурьбой.
Капитаны, боцманы, матросы,
поглядим на крохотный линкор,
важные закурим папиросы
с оттиском печальным «Беломор».
Отупевший от тоски и дыма,
кто-то там скомандует: «Вперед!»
И кораблик жизни нашей мимо
прямо в гавань смерти поплывет.
1997
Евгений Александрович Евтушенко в красной рубахе,
говорящий, что любит всех женщин, —
суть символ эпохи,
ни больше, не меньше,
ни уже, ни шире.
Я был на его концерте
и понял, как славно жить в этом мире.
Я видел бессмертье.
Бессмертье плясало в красной
рубахе, орало и пело
в рубахе атласной
навыпуск — бездарно и смело.
Теперь кроме шуток:
любить наших женщин
готовый, во все времена находился счастливый придурок.
…И в зале рыдают, и зал рукоплещет.
1997
Жалея мальчика, который в парке
апрельском промочил не только ноги,
но и глаза, — ученичок Петрарки, —
наивные и голые амуры,
опомнившись, лопочут, синеоки:
— Чего ты куксишься? Наплюй на это.
Как можно убиваться из-за дуры?
А он свое: «Лаура, Лаурета…»
1997
Я слышу приглушенный мат
и мыслю: грозные шахтеры,
покуривая «Беломоры»,
начальство гневно матерят.
Шахтеры это в самом деле
иль нет? Я топаю ногой.
Вновь слышу голос с хрипотцой:
вы что там, суки, офигели?!
…Сидят — бутыль, немного хлеба —
четырнадцать простых ребят.
И лампочки, как звезды неба,
на лбах морщинистых горят.
1997