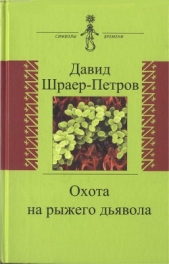Избранное

Избранное читать книгу онлайн
В поэзии следует принципам, заложенным акмеистами и близкими по поэтике авторами (от И. Анненского до Бориса Пастернака): описание предметного мира, быта и одновременно включённость в мировую культуру (цитатность). Кушнер чужд формальным экспериментам, новаторству: белому стиху, верлибру, словотворчеству. Лучше всего о Кушнере сказал его современник Иосиф Бродский: "Если можно говорить о нормативной русской лексике, то можно, я полагаю, говорить о нормативной русской поэтической речи. Говоря о последней, мы будем всегда говорить об Александре Кушнере".Тот же Бродский дал общую оценку так: "Александр Кушнер - один из лучших лирических поэтов XX века, и его имени суждено стоять в ряду имён, дорогих сердцу всякого, чей родной язык русский.Стихам Кушнера свойственна скромность, близость к прозаической речи; мастерство поэта раскрывается только при неторопливом чтении этих стихов - в соответствии с тем, как сам Кушнер раскрывает окружающий мир.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
…Ужели я предам позорному злословью –
Вновь пахнет яблоком мороз –
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?
Нет никаких оснований сомневаться в искренности этих мандельштамовских стихов, написанных в 1924 году.
И можно ли представить жизнь интеллигентного человека в советской России 1920-30 годов без пастернаковской “Высокой болезни”, без “Второго рождения”, без всех этих сомнений, и самообличения, и самопожертвования: “И разве я не мерюсь пятилеткой, Не падаю, не поднимаюсь с ней? Но как мне быть с моей грудною клеткой И тем, что всякой косности косней?..” И можно ли представить нашу поэзию без стихов: “Мне стыдно и день ото дня стыдней, Что в век таких теней Высокая одна болезнь Еще зовется песнь”? Все эти строки вошли в сознание, растворены в крови, – кажется, что без них не было бы и нас. Нас, наверное, а поколения наших литературных учителей – наверняка. Вот что писала Лидия Гинзбург в дневнике 1932 года по поводу стихов “Столетье с лишним – не вчера, А сила прежняя в соблазне В надежде славы и добра Глядеть на вещи без боязни…”: “Стихи страшные своей смелостью, с которой он берет на себя ответственность за пушкинские “Стансы”. “Стансы”, опозоренные замалчиванием, оправдыванием, всеми подозрениями, он поднимает на высоту новой поэтической мысли. Первое отпущение греха, возникшее из глубины нашего опыта. Впервые сострадательная и товарищеская рука коснулась того страстного, остросоциального желания жить, а тем самым оправдывать жизнь, которым так трагичен Пушкин конца 20-х годов”. А без этого оправдания жизни, при всем ее трагизме, человечеству давно бы следовало броситься с Левкадской скалы, утопиться, отравиться, пустить себе пулю в лоб. Вообще я думаю, что искусство (и, разумеется, поэзия) – аналог молитвы, разговор с Богом, и неверующий человек обретает Его в стихах.
“… И белому мертвому царству, Бросавшему мысленно в дрожь, Я тихо шепчу: “Благодарствуй, Ты больше, чем просят, даешь”. Кажется, что в этом стихотворении (“Иней” 1941) поэт обращается к зимнему холоду, сковавшему всю жизнь, всю советскую эпоху, тем более что этой последней строфе предшествуют в начале стихотворения строки: “Расстраиваться не надо: У страха глаза велики”. И так у него всегда: с ощущением благодарности написаны едва ли не все стихи. Состояние счастья, приходившее к нему вместе с работой, – непременное условие его жизни, его образ жизни. Человек может вытащить из черного мешка при своем рождении не самый счастливый билет: родиться и жить при Ироде, при Иване Грозном, при Сталине (не всем же выпадает удача явиться на свет, допустим, в благополучной Голландии где-нибудь в середине прошлого века) – это уж как повезет. Несчастье в грозные времена подстерегает его на каждом шагу (в благополучные, кстати сказать, подстерегает тоже), но не уметь радоваться жизни по своим, не учтенным идеологией поводам – это значит сдать партию без игры, поле сражения – без боя. Другими словами, это и будет торжеством всепобеждающего сталинизма. Каждая строка Пастернака сопротивляется такому поражению. Господи, как скучно и однообразно сегодняшнее, заранее заданное нытье в стихах!
Вряд ли когда-нибудь я осмелился бы (даже если бы он прожил лет на пять-десять дольше), прийти к нему со стихами. Такие обдуманные визиты к великому человеку мало что дают: ты имеешь дело с человеком, оторванным от своих занятий, может быть, поджидающим парикмахера (как рассказал о своем посещении Пастернака Е.Рейн); ты имеешь дело с человеком – и только, а всё лучшее, что он может тебе предложить, сказано им в стихах, на бумаге. Зато, если ты пишешь стихи, – можешь вообразить в них всё что угодно, в том числе – и разговор с любимым поэтом: “Читать Пастернаку – одно удовольствие! Читал я стихи ему в воображении. Во-первых, не страшно. В своем разглагольствовании И сам он – дитя, и широк, как все гении”. А заканчивается этот счастливый сон так: “И утро по горным отрогам развесило Мечты, прагматизмом подбитые с краю. И, что б ни сказал, соглашаться с ним весело. Я тоже так думаю. Как? Я не знаю. Не знаю. Но в сбоях стиха спазматических, Как ни было б грустно и как одиноко, Не ждет он от вас непременно трагических Решений и выводов, только – намёка”. Только намёка – и за это знание о трагической подоплеке жизни и способность к ее преодолению, за юношеское “презрение к судьбе” (“Сохраню ль к судьбе презренье?” - как сказано у Пушкина) я ему и благодарен.
Мандельштам и по-человечески устроен иначе, и стихи его в этом смысле куда более сложны, противоречивы, многослойны, многосоставны. Но все равно в момент создания стихов, даже самых трагических, он бывал абсолютно счастлив – и это счастье передается нам, вызывая восхищение. “Я в львиный ров и крепость погружен”, – так начинается одно из последних его стихотворений. Но вот как оно заканчивается: “Не ограничена еще моя пора: И я сопровождал восторг вселенский, Как вполголосая органная игра Сопровождает голос женский”. (1937) Не забываю проставить дату, чтобы было ясно, когда это написано.
А ведь это благодаря заступничеству Пастернака Мандельштам погиб не в 1934. а в 1938 году, а в 1935 были выпущены на свободу после первого ареста Н.Пунин и Л.Гумилев. Может быть, перечислить тех, кому он писал в лагеря и кому помогал деньгами? Это и А.Эфрон, дочь Цветаевой, и Анастасия Цветаева, и переписка с женами Паоло Яшвили и Тициана Табидзе, и О.Ивинская, и помощь Ахматовой, Н.Я.Мандельштам… У Шаламова есть замечательный рассказ о том, каким счастьем было для него в ссылке получить письмо от Пастернака. А вот еще одна удивительная подробность: на банкете в Минске в феврале 1936 года, венчавшем писательский пленум, Пастернак провозгласил тост за Мандельштама, находившегося в воронежской ссылке!
А не напиши он “известинских стихов”, не сделай соответствующих переводов с грузинского – его бы точно уничтожили в 37-м году, уничтожили хотя бы за дружбу с Бухариным, назвавшим его лучшим поэтом в своем докладе на писательском съезде. Кстати сказать, и написаны два “сталинских” стихотворения (второе – “Я понял: всё живо…”) и напечатаны в “Известиях” по просьбе главного редактора – Бухарина, в то время уже превращенного в тень и обреченного на уничтожение. На обратной стороне машинописного текста Пастернак записал в 1956 год: “Бухарину хотелось, чтобы такая вещь была напечатана, стихотворение было радостью для него”.
Но ведь вы любите “Август” Пастернака, “Зимнюю ночь”, “Гамлета”, “Гефсиманский сад”, “Ночь” (“И страшным, страшным креном К другим каким-нибудь Неведомым вселенным Повернут Млечный Путь”), “В больнице” – ничего этого бы не было.
Статья уже была написана, когда до меня дошли слухи о готовящихся памятниках вождю. В это трудно поверить, но говорят, Зураб Церетели, осчастлививший нас железным памятником Петру, возвышающимся над Москвой-рекой, как обгоревшая ель, уже изготовил к юбилейным победным торжествам памятник, посвященный Ялтинской конференции, – изваял руководящую тройку “союзников”: Сталина, Рузвельта и Черчилля. Если это так, не подкинуть ли ему еще одну идею: усадить на одной скамье, на манер незабвенной парочки в Горках, – Сталина и Мандельштама?
2005
***
На череп Моцарта, с газетной полосы
На нас смотревшего, мы с ужасом взглянули.
Зачем он выкопан? Глазницы и пазы
Зияют мрачные во сне ли, наяву ли?
Как! В этой башенке, в шкатулке черепной,
В коробке треснувшей с неровными краями
Сверкала музыка с подсветкой неземной,
С восьмыми, яркими, как птичий свист, долями!
Мне человечество не полюбить, печаль,
Как землю жирную, не вытряхнуть из мыслей.
Мне человечности, мне человека жаль!
Чела не выручить, обид не перечислить.
Марш - в яму с известью, в колымский мрак, в мешок,
В лед, "Свадьбу Фигаро" забыв и всю браваду.
О, приступ скромности, ее сплошной урок!
Всех лучших спрятали по третьему разряду.
Тсс... Где-то музыка играет... Где? В саду.