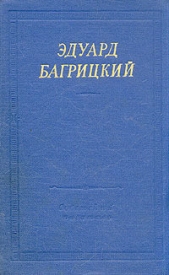На покосе
между кочек
трясогузки гнезда вьют,
сто кузнечиков стрекочут,
десять тысяч птиц поют.
Мы идем большой травою,
каждый силу не таит,
и над мокрой головою
солнце ястребом стоит.
Белоус берет с размаху
в ночь отбитая коса,
вся в поту моя рубаха,
неподвижны небеса.
Скоро полдень.
Пить охота.
Лечь бы
в тень
в стороне…
Тяжела косцов работа,
только соль седьмого пота
оседает на спине…
Только жажда…
Только птица
смотрит на землю с высот.
Что же Анна, еретица,
квас и воду не несет?
Завела такую моду —
в туеске носила воду…
Приходи скорей к усатым,
целовать тебя готов —
в сарафане полосатом,
восемнадцати годов.
Мы тебя заждались, Анна,
и, тоскуя и любя,
каждый парень непрестанно
вспоминает про тебя.
Край зеленый,
край мой родный,
улетевшие года,
прямо со льду квас холодный,
родниковая вода.
Часто вижу я воочью
наши светлые края,
вспоминаю часто ночью —
где же Аннушка моя?
Где,
в каких туманах кроясь,
опадает наземь лес,
где твоя коса по пояс,
твой берестяной туес?
Мне недавно рассказали,
и прослушал я в тоске,
что видали на вокзале
нашу Аннушку в Москве.
Рассказали мне туманно,
что горда своей красой,
что осоку наша Анна
нынче косит не косой,
а машиною мудреной:
как машина побежит,
так за Анной пласт зеленый,
словно путь-тропа лежит.
Помнишь, Анна?
У кургана
ты совсем была не той.
Мне теперь сказали:
«Анна
носит орден золотой».
Анна, слушай:
тяжело мне,
я от вас теперь вдали,
ты меня хоть мельком вспомни
и посылку мне пришли.
Шли мы вместе,
шли мы в ногу,
я посылке буду рад —
запакуй туес в дорогу,
адресуй на Ленинград.
Очень тяжко расставаться,
но, тоскуя и скорбя,
я им буду любоваться,
вспоминая про тебя.
Чего еще? Плохая шутка,
с тобою сыграна, Кощей,
и кожа кислая полушубка —
хранительница от дождей —
лежит на дряблом теле елкой,
засохшей, колкою, лесной,
и давит, сколотый приколкой,
рубахи ворот расписной.
А около тебя старуха,
сыны, зятья и деверя
послушно навострили ухо,
тебе про горе говоря.
А ты молчишь… На самом деле,
к чему пустая болтовня?
У вас всего-то, что надели,
выскакивая из огня.
И снес огонь родную кровлю —
торчит горелая труба,
золой и неповинной кровью —
покрыта прежняя тропа.
И не вернется больше слава,
когда твоя звенела рожь,
когда, под ноготь зажимая,
копил в кулак за грошем грош,
когда кругом ломали шапки,
а голь помыслить не могла
на вашу милость, словно шавки,
хрипя, брехать из-за угла.
И только в праздничной беседе,
запрятав глубоко вражду,
твои голодные соседи
тебе стонали про нужду.
И что же повелось веками,
как поступал тогда старик, —
муку давал пудовиками,
а брал за пуд десятерик.
Зато такое лишь приснится, —
землей равняло колеи,
когда летала колесница,
как у пророка Илии.
Дуга, бубенчиками смейся,
почтенье гните до земли:
сидит посереди семейства
в коляске голова семьи.
А сбоку, в сено оседая,
в пух разодетая жена,
и борода его седая
на животе распушена.
Копил, копил полжизни ровно,
но, знаменем подняв вражду,
соседи голые, как бревна,
уже не стонут про нужду.
И ходит беднота строптива
вокруг да около, в кольцо,
и вот дыханье коллектива
тебе ударило в лицо.
А ты одно: пускай за это
Советы жарит сатана…
И вот семейного совета
встает огромная стена.
Но если биться — надо биться,
и по стене ударь в упор,
и вот берет впотьмах убийца
огонь и злобу и топор.
Теперь стоит над пепелищем,
над кровью чистого коня —
не богачом уже, а нищим,
в чем только вышел из огня.
А утро близится — и скоро
и мы заявимся сюда, —
спасайся от суда мирского,
беги от страшного суда.
Сгибаясь от тоски и грусти,
и мести пронеся обет,
иди в леса, ломая грузди
себе на ужин и обед.
А слез неповторимых грозди
висят отнюдь не для красы,
и зубы ржавые, как гвозди,
прокусят губы и усы.
И всё лесами, вплоть до Волги,
ночами сквозь осенний гуд,
с тобою сыновья, как волки,
как волки рысью пробегут.
Недолговечна только слава
звериной, узенькой стези —
винтовка и обход —
облава, —
и вы, подбитые в грязи,
и взгляд последний полон злости
из-под сырых, тяжелых лбов, —
и тлеют в поле ваши кости
без погребения гробов.