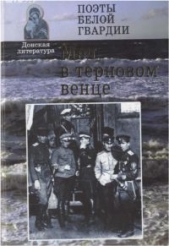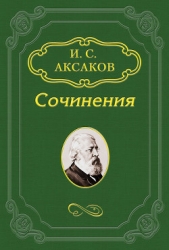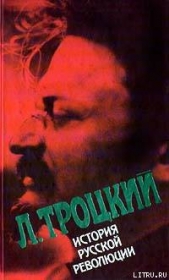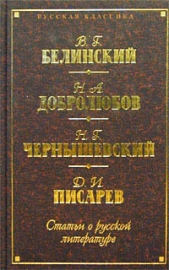Была похожа на тяжелый гроб
Большая лодка, и китаец греб,
И весла мерно погружались в воду…
И ночь висела, и была она,
Беззвездная, безвыходно черна
И обещала дождь и непогоду.
Слепой фонарь качался на корме —
Живая точка в безысходной тьме,
Дрожащий свет, беспомощный и нищий…
Крутились волны и неслась река,
И слышал я, как мчались облака,
Как медленно поскрипывало днище.
И показалось мне, что не меня
В мерцании бессильного огня
На берег, на неведомую сушу —
Влечет гребец безмолвный, что уже
По этой шаткой водяной меже
Не человека он несет, а душу.
И, позабыв о злобе и борьбе,
Я нежно помнил только о тебе,
Оставленной, живущей в мире светлом.
И глаз касалась узкая ладонь,
И вспыхивал и вздрагивал огонь,
И пену с волн на борт бросало ветром…
Клинком звенящим сердце обнажив,
Я, вздрагивая, понял, что я жив.
И мига в жизни не было чудесней.
Фонарь кидал, шатаясь, в волны — медь…
Я взял весло, мне захотелось петь,
И я запел… И ветер вторил песне.
Россия отошла, как пароход
От берега, от пристани отходит.
Печаль, как расстояние, растет.
Уж лиц не различить на пароходе.
Лишь взмах платка и лишь ответный взмах.
Басовое взывание сирены.
И вот корма. И за кормой — тесьма
Клубящейся, всё уносящей пены.
Сегодня мили и десятки миль,
А завтра сотни, тысячи — завеса.
И я печаль свою переломил,
Как лезвие. У самого эфеса.
Пойдемте же! Не возвратится вспять
Тяжелая ревущая громада.
Зачем рыдать и руки простирать?
Ни призывать, ни проклинать — не надо.
Но по ночам заветную строфу
Боюсь начать, изгнанием подрублен.
Упорно прорубающий тайфун,
Ты близок мне, гигант четырехтрубный!
Скрипят борта. Ни искры впереди.
С горы и в пропасть!.. Но, обувший уши
В наушники, не думает радист
Бросать сигнал: «Спасайте наши души!»
Я, как спортсмен, любуюсь на тебя
(Что проиграю — дуться не причина)
И думаю, по-новому любя:
«Петровская закваска… Молодчина!»
У губ твоих, у рук твоих… У глаз,
В их погребах, в решетчатом их вырезе —
Сияние, молчание и мгла,
И эту мглу — о светочи! — не выразить.
У глаз твоих, у рук твоих… У губ,
Как императорское нетерпение,
На пурпуре, сияющем в снегу, —
Закристаллизовавшееся пение!
У губ твоих, у глаз твоих… У рук —
Они не шевельнулись, и осилили,
И вылились в согласную игру:
О лебеде, о Лидии и лилии!
На лыжах звука, но без языка,
Но шепотом, горя и в смертный час почти
Рыдает сумасшедший музыкант
О Лидии, о лилии и ласточке!
И только медно-красный барабан
В скольжении согласных не участвует,
И им аккомпанирует судьба:
— У рук твоих!
— У губ твоих!
— У глаз твоих!
Облик рабский, низколобый
Отрыгнет поэт, отринет:
Несгибаемые души
Не снижают свой полет.
Но поэтом быть попробуй
В затонувшей субмарине,
Где ладонь свою удушье
На уста твои кладет.
Где за стенкою железной
Тишина подводной ночи,
Где во тьме, такой бесшумной, —
Ни надежд, ни слез, ни вер,
Где рыданья бесполезны,
Где дыханье всё короче,
Где товарищ твой безумный
Поднимает револьвер.
Но прекрасно сердце наше,
Человеческое сердце:
Не подобие ли Бога
Повторил собой Адам?
В этот бред, в удушный кашель
(Словно водный свод разверзся)
Кто-то с ласковостью строгой
Слово силы кинет нам.
И не молния ли это:
Из надводных, поднебесных,
Над охваченных рассудком
Озаряющих глубин! —
Вот рождение поэта,
И оно всегда чудесно,
И под солнцем, и во мраке
Затонувших субмарин.
Сияет вечер благостностью кроткой.
Седой тальник. Бугор. И на бугре
Костер, и перевернутая лодка,
И чайник закипает на костре.
От комаров обороняясь дымом, —
Речь русская слышна издалека, —
Здесь на просторе этом нелюдимом
Ночуют три веселых рыбака.
Разложены рыбацкие доспехи,
Плащи, котомки брошены в ковыль,
И воткнутые удочки, как вехи,
И круговая булькает бутыль.
И кажется, опять былое с нами.
Где это мы в вечерний этот час?
Быть может, вновь на Иртыше, на Каме,
Опять на милой родине сейчас?
Иль эта многоводная река
Былинный Волхов, древняя Ока?
Краса чужбины, горы, степи, реки,
Нам не уйти от родины вовеки,
И как бы вам ни виться, ни блистать,
Мы край родной всё будем вспоминать!
Но сладок ваш простор, покой, уют,
Вам наша благодарность за приют!