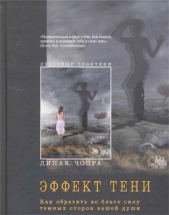Сапфиры в темном серебре оправы
чуть светятся девичьими очами;
и лозы свились гибкими ветвями,
как звери в брачный час среди дубравы;
и жемчуг держит стражу величаво,
в узорах дивных сберегая пламя,
рожденное и скрытое тенями.
Венец, покров и серебро страны —
они в движение вовлечены,
как зерна на ветру, как ключ в долине, —
все светится в мерцаньи со стены.
Темнеют три овала посредине:
лик Матери, и с двух сторон узки,
как две миндалины, в уставном чине
над серебром воздеты две руки.
И темные ладони в тишине
пророчат царство в образе старинном,
что зреет до поры плодом невинным
и наводнится ручейком единым,
единосущным, вечно светлым Сыном
в невиданной голубизне.
Так говорил ладоней взлет,
но лик ее — уже открытый вход,
в тепло вечерних сумерек ведущий.
И свет улыбки, на устах живущей,
в неверной мгле блуждая, угасал.
В земном поклоне царь сказал тогда:
Неужто ты не слышишь крик, идущий
из глубины сердец, и страх гнетущий, —
мы ждем твоей любви; скажи, куда
ушел зовущий лик; куда зовущий?
С великими святыми ты всегда.
В своей одежде жесткой царь продрог,
он в одиночестве познать не мог,
как близок он ее благословенью
и как ото всего вокруг далек.
Безвольный царь раздумием объят,
и пряди редкие волос висят,
скрывая в прошлое ушедший взгляд,
и лик царя, как тот, в златом овале,
ушел в широкий золотой наряд.
(Чтоб встретить Богоматери явленье).
Две ризы золотых мерцали в зале
и прояснялись в отблесках лампад.
(Ε. Витковский)
Я вдруг впервые понял суть фонтанов,
стеклянных крон загадку и фантом.
Они как слезы мне, что слишком рано —
во взлете грез, в преддверии обманов —
я растерял и позабыл потом.
Ужель я позабыл, что и к случайным
вещам простерты горних сфер объятья?
Что мне дышал величьем изначальным
старинный парк, в огне зари прощальном
вздымавшийся, — и звук в краю печальном
девичьих песен, темных, как заклятья,
взметнувшихся до сонных крон ночных
и будто явью ставших, будто их
уж отраженье ждет в пруду зеркальном?
Но стоит мне припомнить на мгновенье,
что сделалось с фонтанами и мной,
как вновь я возвращаюсь к низверженью,
где воды мне являют мир иной:
то мир ветвей, глядящих в мрак колодца,
мир голосов, чье пламя еле бьется,
прудов, что только берега извивы
в себе умеют повторить тоскливо,
небес, что вдруг отпрянули смущенно
от рощ закатных, мраком поглощенных,
и выгнулись иначе, и темнеют,
как будто озарили мир не тот…
Ужель я позабыл, что неба свод
не внемлет нам в торжественной пустыне
и что звезда звезду распознает
лишь как сквозь слезы в этой тверди синей?
А может быть, и мы здесь, в свой черед,
кому-то служим небом. Тот народ
глядит на нас в ночи и нам поет
свою хвалу. Иль шлют его поэты
проклятья нам. Иль плачут одиноко
и к нам взывают, ибо ищут бога,
что где-то рядом с нами, и с порога
подъемлют лампы и молитв слова
возносят — и тогда на наши лица,
как бы от этих ламп, на миг ложится
невыразимый отсвет божества…
(А. Карельский)
Я зачитался. Я читал давно,
с тех пор, как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
не слышал я дождя.
Я вглядывался в строки, как в морщины
задумчивости, и часы подряд
стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу, краскою карминной
в них набрано: закат, закат, закат…
Как нитки ожерелья, строки рвутся
и буквы катятся, куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
должно еще раз было оглянуться
из-за охваченных зарей оград.
А вот как будто ночь по всем приметам.
Деревья жмутся по краям дорог,
и люди собираются в кружок
и тихо рассуждают, каждый слог
дороже золота ценя при этом.
И если я от книги подыму
глаза и за окно уставлюсь взглядом,
как будет близко все, как станет рядом,
сродни и впору сердцу моему!
Но надо глубже вжиться в полутьму
и глаз приноровить к ночным громадам,
и я увижу, что земле мала
околица, она переросла
себя и стала больше небосвода,
а крайняя звезда в конце села —
как свет в последнем домике прихода.
(Б. Пастернак)
Деревья складками коры
мне говорят об ураганах,
и я их сообщений странных
не в силах слышать средь нежданных
невзгод, в скитаньях постоянных,
один, без друга и сестры.
Сквозь рощу рвется непогода,
сквозь изгороди и дома.
И вновь без возраста природа.
И дни, и вещи обихода,
и даль пространств — как стих псалма.
Как мелки с жизнью наши споры,
как крупно то, что против нас!
Когда б мы поддались напору
стихии, ищущей простора,
мы выросли бы во сто раз.
Все, что мы побеждаем, — малость,
нас унижает наш успех.
Необычайность, небывалость
завет борцов совсем не тех.
Так ангел Ветхого Завета
искал соперника под стать.
Как арфу, он сжимал атлета,
которого любая жила
струною ангелу служила,
чтоб схваткой гимн на нем сыграть.
Кого тот ангел победил,
тот правым, не гордясь собою,
выходит из такого боя
в сознаньи и в расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
его все чаще побеждало,
чтобы расти ему в ответ.
(Б. Пастернак)