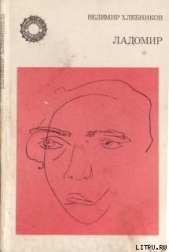Пришел, смеется, берет дыму.
Приходит вновь, опять смеется.
Опять взял горку белых ружей для белооблачной пальбы.
Дает чертеж, как предки с внуками
Несут законы умных правил, многоугольники судьбы.
«Мне кажется, я склеен
Из Иисуса и Нерона.
Я оба сердца в себе знаю –
И две души я сознаю.
Приговорен я был к расстрелу
За то, что смертных приговоров
В моей работе не нашли.
Помощник смерти я плохой,
И подпись, понимаете, моя
Суровым росчерком чужие смерти не скрепляла, гвоздем для гроба не была.
Но я любил пугать своих питомцев на допросе, чтобы дрожали их глаза.
Я подданных до ужаса, бывало, доводил
Сухим отчетливым допросом.
Когда он мысленно с семьей прощался
И уж видал себя в гробу,
Я говорил отменно сухо:
„Гражданин, свободны вы и можете идти“.
И он, как заяц, отскочив, шептал невнятно и мял губами,
Ко дверям пятился и – с лестницы стремглав, себе не веря,
А там – бегом и на извозчика, в семью…
Мой отпуск запоздал на месяц –
Приходится лишь поздно вечером ходить».
Молчит и синими глазами опять смеется и берет
С беспечным хохотом в глазах
Советских дымов горсть изрядную.
«До точки казни я не довожу,
Но всех духовно выкупаю в смерти
Духовной пыткою допроса.
Душ смерти, знаете, полезно принять для тела и души.
Да, быть распятым именем чеки
И на кресте повиснуть перед общественным судом
Я мог.
Смотрите, я когда-то тайны чисел изучал,
Я молод, мне лишь 22, я обучался строить железные мосты.
Как правилен закон сынов и предков, – стройней железного моста.
И как горит роскошная Москва!
Здесь сходятся углы и здесь расходятся.
Смотрите», – говорил, глаза холодные на небо подымая.
Он жил вдвоем. Его жена была женой другого.
Казалося, со стен Помпей богиней весны красивокудрой,
Из гроба вышедши золы, сошла она,
И черные остриженные кудри
(Недавно она болела сыпняком),
И греческой весны глаза, и хрупкое утонченное тело,
Прозрачное, как воск, и пылкое лицо
Пленяли всех. Лишь самые суровые
Ее сурово звали «шкура» или «потаскушка».
Она была женой сановника советского.
В покое общем жили мы, в пять окон.
По утрам я видел часто ласки нежные.
Они лежали на полу, под черным овечьим тулупом.
Вдруг подымалось одеяло на полу,
И из него смотрела то черная, то голубая голова, чуть сонная.
Порой у милой девы на коленях он головой безумною лежал,
И на больного походила у юноши седая голова,
Она же кудри золотые юноши рукою нежно гладила,
Играя ими, перебирала бесконечно, смотря любовными глазами,
И слезы, сияя, стояли в ее гордых от страсти, исчерна черных глазах.
Порою целовалися при всех крепко и нежно, громко,
И тогда, сливаясь головами, – он голубой и черная она, – на день и ночь,
На обе суток половины оба походили, единое кольцо.
И, легкую давая оплеуху, уходя, –
«Сволочь ты моя, сволочь, сволочь ненаглядная»,–
Целуя в белый лоб, словами нежными она его ласкала,
Ероша белыми руками золотые перья на голове и лбу.
Он нежно, грустно улыбался и, голову понуривши, сидел.
Видал растущий ряд пощечин по обеим щекам
И звонкий поцелуй, как точка, пред уходом,
И его насмешливый и грустный бесконечный взгляд.
Два месяца назад он из-за нее стрелялся,
Чтоб доказать, что не слабо, и пуля чуть задела сердце.
Он на волос от смерти был, золотокудрый,
Он кротко все терпел,
И потом на нас бросал взгляд умного презренья, загадочно сухой и мертвый,
Но вечно и прекрасно голубой,–
Как кубок кем-то осушенный, взгляд начальника на подчиненных.
Она же говорила: «Ну, бей меня, сволочь», – и щеку подставляла.
Порою к сыну мать седая приходила,
Седые волосы разбив дорогой.
И те же глаза голубые, большие, и тот же безумный и синий огонь в них.
Курила жадно, второпях ласкала сына, гладя по руке,
Смеясь, шепча, и так же кудри гладила
С упреком счастья: «Ах ты, дурак мой, дурачок, совсем ты дуралей».
И плакала порою торопливо, и вытирала синие счастливые глаза под белыми седыми волосами,
Шепча подолгу наедине с сухим и грустным сыном.
И бесконечной околицей он матери сознанье окружал.
Врал без пощады про женино имение и богатство.
Они в далекую дорогу собирались в теплушке, на польские окопы.
Семь дней дороги.
Как вор, скрываясь, выходил он по ночам, свой отпуск исчерпав
И сделав, кажется, два новых (печати были у него),
И гордо говорил: «Меня чека чуть-чуть не задержала».
Ее портнихи окружали и бесконечные часы.
Как дело было, я не знаю, но каждый день торговля шла
Часами золотыми через третьих лиц.
Откуда и зачем, не знаю. Но это был живой сквозняк часов.
Она вела веселую и щедрую торговлю.
Но он, Нерон голубоглазый,
Утонченною пыткой глаз голубых и блеском синих глаз
Казнивший старый мир, мучитель на допросе
Почтенных толстых горожан,
Ведь он же на кресте висел чеки!
И кудри золотые рассыпал
С большого лба на землю.
Ведь он сошел на землю!
Вмешался в ее грязи,
На белом небе не сиял!
Как мальчик чистенький, любимец папы,
Смотреть пожар России он утро каждое ходил,
Смотреть на мир пылающий и уходящий в нет:
«Мы старый мир до основанья, а затем…»
Смотреть на древнюю Москву, ее дворцы, торговли замки,
Зажженные сегодняшним законом.
Он вновь – знакомый всем мясокрылый Спаситель,
Мясо красивое давший духовным гвоздям,
В сукне казенного образца, в зеленом френче и обмотках, надсмешливый.
А после бросает престол пробитых гвоздями рук,
Чтоб в белой простыне с каймой багровой,
Как римский царь, увенчанный цветами, со струнами в руке,
Смотреть на пылающий Рим.
Два голубых жестоких глаза
Наклонились к тебе, Россия, как цветку, наслаждаясь
Запахом гари и дыма, багровыми струями пожара
России бар и помещиков, купцов.
Он любит выйти на улицы пылающего мира
И сказать: «Хорошо».
В подвале за щитами решетки
Жили чеки усталые питомцы.
Оттуда гнал прочь прохожих часовой,
За броневым щитом усевшись.
И к одному окну в урочный час
Каждый день собачка белая и в черных пятнах
Скулить и выть приходила к господину,
Чтоб лаять жалобно у окон мрачного подвала.
Мы оба шли.
Она стояла здесь, закинув ухо,
Подняв лапку, на трех ногах,
И тревожно и страстно глядела в окно и лаяла тихо.
Господин в подвале темном был.
Тот город славился именем Саенки.
Про него рассказывали, что он говорил,
Что из всех яблок он любит только глазные.
«И заказные», – добавлял, улыбаясь в усы.
Дом чеки стоял на высоком утесе из глины
На берегу глубокого оврага
И задними окнами повернут к обрыву.
Оттуда не доносилось стонов.
Мертвых выбрасывали из окон в обрыв.
Китайцы у готовых могил хоронили их.
Ямы с нечистотами были нередко гробом,
Гвоздь под ногтем – украшением мужчин.
Замок чеки был в глухом конце
Большой улицы на окраине города,
И мрачная слава окружала его. Замок смерти,
Стоявший в конце улицы с красивым именем писателя,
К нему было применимо: молчание о нем сильнее слов.
«Как вам нравится Саенко?» –
Беспечно открыв голубые глаза,
Спросил председатель чеки.