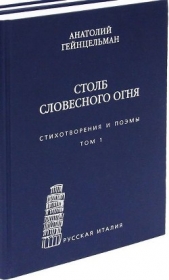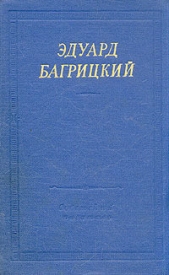Аллеи женственных платанов.
Лазурь над ними в октябре,
Сто тысяч ласковых обманов,
Как кошка с мышкою в игре.
Холмы поющие вдоль Арно.
San Miniato в высоте.
Нахмуренно, высокопарно
Лес кипарисовый кой-где.
Всё позолоченное. Жарко.
Вода – прозрачный малахит.
S. Nicolò угрюмо арка
Глядит на солнечных харит.
Душа смеется поневоле
От солнечных повсюду чар,
Как цветик аленький на поле, –
И, как свинцовый с сердца шар,
Спадает в реку полстолетья,
И снова хочется всё знать
И снова сыпать междометья,
Влюбленный в голубую мать!
Но вот дворец библиотеки,
Одной из лучших на земле.
Лавины книг, журналов реки,
Как не рассеяться тут мгле!
Полвека в этих тихих залах
Провел я меж цветов теплиц,
Полвека на словесных балах
Я изучал бумажных птиц.
Когда-нибудь и мой гербарий
На полках этих будет тлеть,
Коль не подпалит пролетарий
Познанья каменную клеть.
Свинцовых литер отпечаток
Поэзию души мертвит,
Не нужно никаких перчаток,
Не нужен самый алфавит!
Я всё забыл, чему учился,
Всю мудрость школьную свою,
Я тайне Божьей приобщился,
Как птица я теперь пою.
Исчезли в бездне силлогизмы,
Математическая сушь,
Академические призмы,
Реторты и другая чушь.
Как пред незнающим Адамом,
Лежит передо мною рай,
И в центре нахожусь я самом,
Родимый созерцая край.
Всё прошлое уже – глубоко
В земле похороненный пласт,
И нет во мне уже пророка,
И чужд мне уж иконокласт.
Я одинокий лишь художник,
Наивный я опять поэт,
И самый скромный подорожник
Мне ближе, чем идейный свет.
Неслышному я внемлю росту
Росистой под ногой травы,
По радуги шагаю мосту,
И камни для меня живы.
Все звезды братья мне и сестры,
И волн и ветра шепот мне
Важней стократ, чем Ариосты,
И я живу как в вещем сне.
Всё прошлое – кровавый полог,
Всё киммерийская лишь тьма.
Антракт убийственно был долог,
Но расступилась бахрома,
И началось богослуженье
Мистическое для меня;
Жизнь – странное стихотворенье,
Жизнь – атом мирового дня.
Я не люблю египетских музеев;
Ряды пестро раскрашенных гробов,
Где прахи спят зловещих лицедеев
Из канувших в небытие веков.
Пропитанные камедью обмотки,
Сухие руки, зубы – род клещей,
Глаза без глаз, коричневые глотки,
Подобье жалкое святых мощей,
Без святости, без героизма духа
Для нас, разочарованных зевак;
Всё та же черная на вид старуха,
Всё те же мумии святых собак.
На пестрых крышках извнутри, снаружи
Всё тот же монотонный иероглиф
О том, что было хуже, что не хуже,
Всё тот же дикий, допотопный миф.
Вдоль стен в обличии зверином боги
Иль на богов похожие цари,
Домашний скарб затейливо-убогий,
Гребенки, вазочки и пузырьки.
Что ж? Жили, всуе мыслили, страдали
Они не хуже и не лучше нас,
Великий стиль пластический создали
Для вечности как будто, не на час.
Но как-то жутко всё, но как-то страшно,
Но как-то непостижно всё мертво,
Для археологов ученых брашно,
Истории великолепное стерво!
Страшней, однако, от идейных мумий
Давно засохших и червивых тел:
Они – причина всех земных безумий,
Кровавых наших и преступных дел!
Я жалкий слизень без спирали
В холодную, скупую осень,
И все цветы поумирали,
И слишком много было весен.
Вдавить меня мужицкий лапоть
Горазд в раскисшую дорогу,
И вечно будет с неба капать,
И путь закрыт навеки к Богу.
Какой же смысл в таком дрожаньи,
В таком искании дорожки?
Какой же смысл в стихов слаганьи,
Когда не видят Бога рожки?
Нет смысла в пожираньи листьев,
Нет смысла в тварей размноженьи,
Нет смысла даже в бескорыстном
Другим бессмысленным служеньи.
Есть удовольствие от солнца,
От свежего листа салата,
От красного листа-червонца,
От вакханалии заката.
Но цели никакой и смысла
Нет в прозябающем лишь слизне,
И сломанного коромысла
Никак уж не поправишь жизни.
Дрожат деревья, звери, люди,
Дрожит вода в холодной луже,
В творенья слишком скучном чуде
Становится всё хуже, хуже...
Пора бы доползти до цели,
Чтоб перестало с неба капать,
Пора бы отзвучать свирели...
Где ты, мужицкий рваный лапоть!