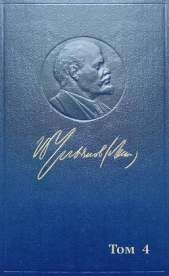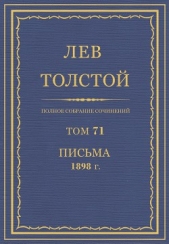Вот моя песня — тебе, Коломбина
Это — угрюмых созвездий печать —
Только в наряде шута-Арлекина
Песни такие умею слагать.
Двое — мы тащимся вдоль по базару,
Оба — в звенящем наряде шутов.
Эй, полюбуйтесь на глупую пару,
Слушайте звон удалых бубенцов!
Мимо идут, говоря: «Ты, прохожий,
Точно такой же, как я, как другой;
Следом идет на тебя непохожий
Сгорбленный нищий с сумой и клюкой».
Кто, проходя, удостоит нас взора?
Кто угадает, что мы с ним — вдвоем?
Дряхлый старик повторяет мне: «Скоро»
Я повторяю- «Пойдем же, пойдем»
Если прохожий глядит равнодушно,
Он улыбается; я трепещу;
Злобно кричу я: «Мне скучно! Мне душно?»
Он повторяет: «Иди. Не пущу»
Там, где на улицу, в звонкую давку
Взглянет и спрячется розовый лик, —
Там мы войдем в многолюдную лавку, —
Я — Арлекин, и за мною — старик.
О, если только заметят, заметят,
Взглянут в глаза мне за пестрый наряд! —
Может быть, рядом со мной они встретят
Мой же — лукавый, смеющийся взгляд!
Там — голубое окно Коломбины,
Розовый вечер, уснувший карниз…
В смертном весельи — мы два Арлекина
Юный и старый — сплелись, обнялись!
О, разделите! Вы видите сами:
Те же глаза, хоть различен наряд!..
Старый — он тупо глумится над вами,
Юный — он нежно вам преданный брат!
Та, что в окне, — розовей навечерий,
Та, что вверху, — ослепительней дня!
Там Коломбина! О, люди! О, звери!
Будьте как дети. Поймите меня.
30 июля 1903. С. Шахматово
11 августа 1903. С. Шахматово
Вечерние люди уходят в дома.
Над городом синяя ночь зажжена.
Боярышни тихо идут в терема
По улице веет, гуляет весна.
На улице праздник, на улице свет,
И свечки и вербы встречают зарю.
Дремотная сонь, неуловленный бред —
Заморские гости приснились царю.
Приснились боярам… — Проснитесь, мы тут…
Боярышня сонно склонилась во мгле
Там тени идут и виденья плывут..
Что было на небе — теперь на земле…
Весеннее утро. Задумчивый сон.
Влюбленные гости заморских племен
И, может быть, поздних, веселых времен
Прозрачная тучка. Жемчужный узор.
Там было свиданье. Там был разговор.
И к утру лишь бледной рукой отперлась,
И розовой зорькой душа занялась.
1 сентября 1903. С.-Петербург
Мой месяц в царственном зените.
Ночной свободой захлебнусь
И там — в серебряные нити
В избытке счастья завернусь.
Навстречу страстному безволью
И только будущей Заре —
Киваю синему раздолью,
Ныряю в темном серебре!..
На площадях столицы душной
Слепые люди говорят:
«Что над землею? Шар воздушный.
Что под луной? Аэростат».
А я — серебряной пустыней
Несусь в пылающем бреду.
И в складки ризы темносиней
Укрыл Любимую Звезду.
«Возвратилась в полночь. До утра…»
Возвратилась в полночь. До утра
Подходила к синим окнам зала.
Где была? — Ушла и не сказала.
Неужели мне пора?
Беспокойно я брожу по зале…
В этих окнах есть намек.
Эти двери мне всю ночь бросали
Скрипы, тени, может быть, упрек?..
Завтра я уйду к себе в ту пору,
Как она придет ко мне рыдать.
Опущу белеющую штору,
Занавешу пологом кровать.
Лягу, робкий, улыбаясь мигу,
И один, вкусив последний хлеб,
Загляжусь в таинственную книгу
Совершившихся судеб.
Я бежал и спотыкался,
Обливался кровью, бился
Об утесы, поднимался,
На бегу опять молился.
И внезапно повеяло холодом.
Впереди покраснела заря.
Кто-то звонким, взывающим молотом
Воздвигал столпы алтаря.
На черте горизонта пугающей,
Где скончалась внезапно земля,
Мне почудился ты — умирающий,
Истекающий кровью, как я.
Неужели и ты отступаешь?
Неужели я стал одинок?
Или ты, испытуя, мигаешь,
Будто в поле кровавый платок?
О, я увидел его, несчастный,
Увидел красный платок полей…
Заря ли кинула клич свой красный?
Во мне ли грянула мысль о Ней?
То — заря бесконечного холода,
Что послала мне сладкий намек…
Что рассыпала красное золото,
Разостлала кровавый платок.
Из огня душа твоя скована
И вселенской мечте предана.
Непомерной мечтой взволнована —
Угадает Ее Имена.