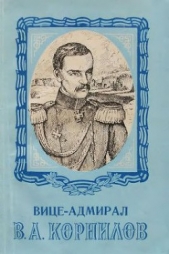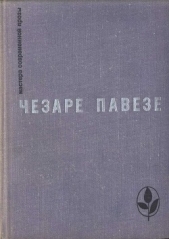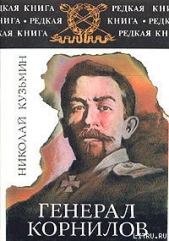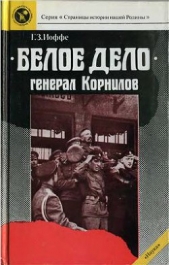Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Борис Корнилов идет в поэзию точно по этим следам.
«Коренастый парень с немного нависшими веками над темными, калмыцкого типа глазами, в распахнутом драповом пальтишке, и косоворотке, в кепочке, сдвинутой на самый затылок… сильно по-волжски окая, просто, не завывая, как тогда было принято… читал стихи», — вглядывается, вслушивается Ольга Берггольц.
А он читает:
В стихах Корнилова звучит то, чего «сменовцы» добиваются с помощью хитрых акмеистических приемов, с помощью изощренной книжности: простая предметность, жизненная здоровая свежесть. Корнилов добивается этого наивнейшими средствами: даже откровенные реминисценции из Есенина (а это считается большим грехом) звучат у него обезоруживающе. У него есть то, чего все жаждут: весомость простоты. Естество. Неподдельность, магически действующая в этом хаосе самолюбий, приемов, новаций, платформ, стилей, знаний.
Молодежные издания начинают широко печатать Корнилова. Через год его уже называют самым талантливым поэтом «Смены» — надеждой ЛАППовского молодняка. Виссарион Саянов сам редактирует первый сборник стихов Б. Корнилова — «Молодость». Книжку рецензируют молодежные газеты и журналы Ленинграда, рецензирует профессиональная литературная «Звезда», рецензирует далекий московский «Октябрь».
Борис Корнилов находит свое место в литературном мире.
Но и книгу «Молодость» Корнилов впоследствии откажется признать подлинным началом своей работы. «Первой книгой» он назовет сборник 1931 года. В том же году — сборник «Все мои приятели». Начинается период профессионального писательства: ровный ленинградский быт прерывается разве что поездками в родные места, участием в разного рода ударных писательских бригадах (поездка в Азербайджан в 1932 году) или литературных совещаниях (поездки в Москву, в Минск). Поэтические сборники Б. Корнилова выходят с известной размеренностью.
В 1931 году, словно почувствовав достаточно сил, Корнилов делает первую попытку приблизиться к эпосу. В этот момент его лирическое творчество предстает в собственном его сознании как внутренне завершенное целое, как этап, предполагающий после себя другой этап. Так это и есть: лирик сложился и вполне выразил себя.
В трех кардинальных ракурсах предстает мироощущение Корнилова-лирика.
Отношение к природе. Отношение к миру людей. Отношение к самому себе.
В ранних нижегородских опытах Б. Корнилова природа как нечто противостоящее человеку еще не существует. «Плач дождя» в этих ранних опытах — такой же условный знак, как «комса от машины», строка «в лето шумное воткнула осень нож» — тот же плод школьного чтения, что и «власть труда». Природа как самостоятельное начало выделяется в сознании Корнилова в тот момент, когда первоначальная целостность разрывается между старым и новым берегами: нужны «каменные скулы Ленинграда», «туман, перешибленный огнями», чтобы родная «волость» приобрела для поэта символический смысл. Первые годы пребывания в Ленинграде пронизаны у Корнилова смутным чувством двойного существования: в своем городке он вспоминает про «город каменный» — в каменном городе мечтает о провинциальных пельменях и геранях; в Семенове он бредит гумилевскими викингами, радужными парусами и злыми вымпелами; в Ленинграде жалуется: «Мне тяжко… Грохочет проспект, всю душу и думки все вымуча. Приди и скажи нараспев про страшного Змея-Горыныча…»
В непрерывном тоскливом раздумье он ощущает в себе как бы две крови, смешанность начал, «примеси» (уж не от печенегов ли это? — задумывается), и, уходя от естественных родных корней, словно рвет от сердца: «Я пошел вперед, не взглянув назад — на соломой покрытые хаты», — но, уйдя от есенинской беззащитно-провинциальной красоты и твердо уже решившись остаться на берегу каменном, — все время чувствует в душе какой-то «нездешний» остаток. Он так и не растворится до конца, этот остаток естества, в каменных кварталах и будет давать ощущение неверности, смутной ненадежности, сдвоенности пути, такое, как будто «был и не был», такое, когда «все люди — как люди, поедут дорогой, а мы пронесем стороной…». Эти строки написаны в 1927 году, когда обаяние столицы еще подстегивает в Корнилове романтическое воображение; через год должна выйти первая книжка, а там — интерес литературной критики, и все казалось: «пронесет стороной!» Не пронесло. В 1929 году первый возбужденный интерес критики к «семеновскому Есенину» сменяется настороженным ожиданием дальнейшего — тут-то, при Великом Переломе, на пике успеха, впервые охватывает Корнилова тайное и смутное отчаяние. Он не умеет осознать этого состояния, но инстинктивно отшатывается в свою оставленную глушь. Его путешествие в природу кажется эпизодом, «охотничьим» антрактом: критики прорабатывают Корнилова за «ремизовщину», и сам он предваряет эти свои «пейзажи» лукаво извиняющейся рубрикой: «Описание природы». Но понимать эту корниловскую «природу» надо широко: перед нами всеобщее неистребимое и смутно живучее, не поддающееся природное начало, которое лирический герой приносит с собой в мир людей, и продолжает носить в себе, и не может от него освободиться.
Что в этих стихах — сугубо корниловское, неповторимое, немыслимое ни у кого другого?
Азарт? Нет, это есть и у Багрицкого. Смертельная опасность природного начала? Нет, у Заболоцкого это ярче. Мотив «страшности»? Нет, и это — скорее для Павла Васильева характерно.
Корниловское — это смутность природы. Гнилостный ветер. Прижатые уши, свинячья полуслепота, шатающаяся туша… Природа здесь — шальная, глухая, душная; природа — это «берлоги, мохнатые ели, чертовы болота, на дыре дыра»; природа — это омуты, логова, темные провалы. У Багрицкого природа — чудо, пьянящая свежая песня, властное рождение молодого, восхождение растущего. У Корнилова иное: природа застывает на последней неверной точке зрелости, на грани разложения и распада плоти. У Заболоцкого самый этот распад плоти — тема для раздумья о высшем смысле, о соединении таинств жизни и смерти. У Корнилова природа погружена в себя, не знает высшего смысла. Но даже наиболее близкая Корнилову жестокая и темная природность П. Васильева более резка и определенна в своей безжалостности. У Корнилова все более замутнено, у него природное начало — это не столько однонаправленная ярость борьбы, сколько своеволие дремлющей, полусонной, неуправляемой плоти; природа — нечто качающееся, неверное, глухое.
Драма отрыва от родных корней, испытанная Б. Корниловым в начале пути, откладывается в его существе вечной смутой: он носит в себе неукрощенное природное начало. Оно наполняет его стихи живой кровью, но этот пульс неуправляем — он идет от «нутра». Природа, преданная человеком, как бы предает его в отместку, она остается в нем ненадежной, качающейся основой, она смешивает и путает в его сознании звуки, краски, ощущения. Так создается неповторимый корниловский стиховой рисунок, угадывающийся почти в любой его строчке.