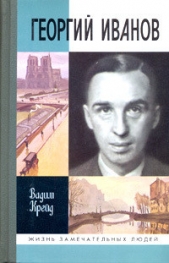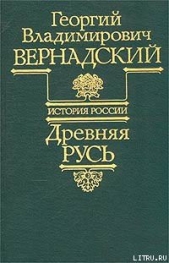Одинокий прохожий
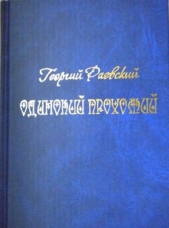
Одинокий прохожий читать книгу онлайн
Георгий Раевский (наст, имя и фам. Георгий Авдеевич Оцуп; 1897/1898-1963) — поэт первой волны русской эмиграции, один из активных участников близкой к В. Ходасевичу литературной группы «Перекресток».
Выпустил в Париже три сборника стихотворений, которые в полном объеме вошли в настоящее издание. Дополнительно приводятся многочисленные отзывы о творчестве Г. Раевского его современников.
Примечание: раздел «Стихотворения разных лет» в бумажном варианте отсутствует.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сами собой, неизвестно почему, приходят на память эти стихи. (Едва ли не лучшее, что можно сказать о стихах вообще). Почему? Потому, может быть, что так и пишутся лучшие стихи:
«Как прощаются, как расстаются, как уходят; как долго потом…». Ни о чем, как будто бы.
«Числа». Париж. 1931. № 5.
Марк Слоним. Парижские поэты
(Присманова А. «Близнецы»; Мамченко В. «Звезды в аду»; Раевский Г. «Новые стихотворения»)
<…> И отвлеченные образы Присмановой, и непросветленные лирические метания Мамченко проникнуты духом безнадежности. В известном смысле им можно противопоставить сборник Георгия Раевского «Новые стихотворения», в котором поэт ищет разрешения всех мук и тревог в пантеистической примиренности.
У Раевского негромкий и несколько однообразный голос, его попытки расширить основную тему не всегда удачны, но стихотворения его подкупают чистотой тембра, благородством тона и прозрачной, порою чуть наивной ясностью. Это скромная «камерная» поэзия, идущая из глубины и обладающая зачастую подлинными песенными достоинствами.
Раевский тяготеет к поэзии «мирового дыхания», его учителями были Гете и Тютчев, а в формальном отношении германские романтики и поэты пушкинской плеяды. Но основной мотив сборника — элегия Жуковского, и преобладают в нем две темы: идиллия лирического пейзажа и умиленное приятие мудрого закона бытия.
Раевский подчеркивает, что «все благо» в высоком строе мира, в мощном и таинственном круговороте, в который входит и шкурка мертвого крота, над которой размышляет поэт, и волшебные видения искусства. Смерть роднит человека с землей, все устроено «мудро и дивно, мгла и холод, и свет и тепло». Мудрость Раевский открывает в простых радостях земли, в малом, почти домашнем, и в описаниях его постоянны образы бабочки, лепестка, цветка, вообще, микрокосм. Он больше любуется синевой небес, если она отражается в капле воды, а не в широкой глади моря. Малое умиляет его, отвечает его тяге к благости, к растворению в природе. Рассвет на полях, тишина заката — внутренне связаны с его мироощущением; оттого же у него «белый дым зимы» и неизменная «прохладная осень с паутинками».
В «медитациях», к которым он весьма склонен, порою излишне подчеркивая их несложный и слишком явный символизм, Раевский проповедует «смиренномудрие». Это опять-таки философия «умной простоты», «холодной и прекрасной синевы», откуда тишина нисходит к измученным сынам земли (и слово, и образ «тишины» все время повторяется в книжке). Она связана у Раевского с «высокими темами» религиозного восприятия жизни. Нет сомнения, что он стремится к «религиозному просветлению» и к мистической настроенности, но в этой области у него гораздо больше желаний, чем достижений. В его стихах на религиозные темы — библейские и христианские — опять-таки преобладает идиллия деревенского храма и сельского кладбища. В лучшем случае — это суховатый символизм «блудного сына», русской соборности и апостольских времен. Явно подражательны пьесы, повторяющие тютчевское «так отчего же в общем хоре душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник».
В стихотворении Раевского, помещенном в «Русском сборнике» (Париж, 1946), он говорит о бедной земле: «Отчего бы ей, как прочим, не вступить в согласный хор, не запеть во мраке ночи средь серебряных сестер? Отчего, когда смеются и ликуют небеса, лишь с одной нее несутся жалобные голоса?»
Эти настроения выражены у Раевского в мерных правильных строфах, иногда очень хорошо построенных (напр., «Спит и во сне почти не дышит», «Истлевший кокон покидая» и др.) и почти стилизованных в духе тридцатых и сороковых годов прошлого столетия. Стихотворения, посвященные современности (а некоторые из них совсем не плохи, напр., о гибели Европы, о России), стоят в сборнике особняком и не включаются в общую связь. Автор точно нехотя платит дань времени, но остерегается, чтобы волнения мира не поколебали его «благостной созерцательности». Война, победа, свобода, плен — в общем мало его интересуют: «Мы — те, кто падает и стонет, и те, чье нынче торжество, мы — тот корабль, который тонет, и тот — что потопил его». Быть может, в реальной жизни Раевский очень больно переживает человеческие крушения и отнюдь не приравнивает палачей к жертвам, но в своем сборнике он становится на позицию «высокой объективности», ведущей к «великолепной обособленности».
«Земное, непрочное племя, все вновь превращаешься ты, когда исполняется время, — в растения, камни, цветы». А если таков закон круговорота, то нечего волноваться, — даже когда «душе невыносимо бремя» дикой злобы, и в смутных днях противны «лживый звук и отзвук лживый подозрительных речей». Не следует преувеличивать значение людских дел:
И поэт возвращается к зеленеющим равнинам, на которых пасутся овцы, к мирному течению реки, окаймленному золотым тростником, к покою заката над тихими полями. Лицо его вновь озарено «благодарной улыбкой и светлой слезой».
Любопытно, что именно Раевский в ряде стихотворений откликается на испытания последних лет. Но упоминает он о них лишь для того, чтобы подчеркнуть свой уход в «монастырь природы». Он отрекается от жизненной борьбы и презирает земные битвы.
Повторяю, нельзя делать выводов на основании трех сборников стихотворений парижских поэтов. Но все-таки очень характерно, что три поэта, совершенно различных и внутренне, и стилистически, в общем приходят к одному и тому же выводу: к отказу от участия в жизни. Присманова грустит о своем раздвоении, настолько тяготеющем над ее сознанием, что она способна лишь к самоуглублению и игре словами; Мамченко, в сущности, повторяет мысль Сологуба — «Мы плененные звери, голосим, как умеем»; а мягкий и в основе своей здоровый Раевский спасается от всех противоречий в бегстве в «умиление».
Если эти высказыванья типичны для русских литераторов во Франции, то это означает, что эмигрантские писатели по-прежнему ощущают себя в том искусственном, нереальном пространстве, в котором нечем дышать и о котором они говорили в стихах и прозе в течение многих лет. Что бы ни происходило в мире, они чувствуют себя бесприютными скитальцами, изгоями.
«Новоселье». Нью-Йорк. 1946, №№ 29–30.
Александр Бахрах. Серое и коричневое
<…> «Amant alterna Camenae»:
«Новые стихотворения» Георгия Раевского по своему тону — книга достижений. Он успел перейти через перевал сомнений. В его гармоническом мире все обосновано, все мудро, даже подчас чересчур мудро и слишком логично. Все здесь на своем месте и на житейскую повседневность, страшную и уродливую, взирает он с некоторой снисходительностью, из высот хоть и запредельных, но все же весьма комфортабельных.
Вкус у него тонкий, и достиг он высокого технического совершенства. Но он точно боится оступиться, боится малейшего промаха, боится быть обвиненным в ереси, откуда бы это обвинение ни исходило.
Читая книгу Раевского, можно убедиться, какой помехой ему служит его гигантская память. Реминисценции подсознательно клокочут в нем, и порой ясно чувствуется, насколько они сковывают его поэтический полет. Много сидел он над Боратынским и Тютчевым, над Блоком и Ходасевичем («изгрызал их», говорил в таких случаях Андрей Белый) и настолько глубоко впитал их в себя, что в его стихах кое-где можно даже уловить их «высокие» интонации. Его творчества это отнюдь не снижает, но только суживает резонанс его стиха. Впрочем, имена его «вечных настолько бесспорны, а сам Раевский в такой степени обладает тактом и чувством меры, что подобная созвучность не может задерживать органического развития поэта, по самой природе своей, непроизвольно опирающегося на лукавый дар Мнемозины, матери всех муз.