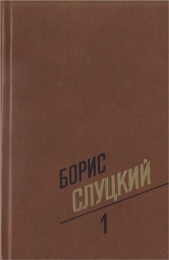Торопливо, терпеливо
гаммы Соничка играет.
звук очнется боязливо
и лениво умирает.
И полны тоски и скуки
звуки догоняют звуки —
словно капли дождевые
где-то в крышу, неживые,
однозвучно, монотонно,
неустанно ударяют.
Далеко мечты летают,
и давно устали руки,
звуки гаснут, звуки тают,
звуки догоняют звуки.
Лишь окончила, сначала…
О в который раз, в который?
Тихо спит и меркнет зала,
ветерок играет шторой;
те же паузы и ноты,
те же скучные длинноты,
так печально, машинально
занывают, уплывают,
словно слезы, застывают.
Ах, как звучны эти гаммы,
эти ноты однозвучны,
как суров приказ докучный
и немного строгий мамы!
Уж ее передник черный
весь измят игрой проворной,
уж, отставив кончик, ножка
затекла, похолодела,
и сама она в окошко
все-то смотрит то и дело.
Надоело ей, как белке,
в колесе кружить без толку —
на часах друг друга стрелки
настигают втихомолку.
Но полны тоски и скуки
звуки догоняют звуки.
Ах, не так ли, как по нотам,
ты и жизнь свою сыграешь.
всем восторгам и заботам
уж теперь ты меру знаешь,
однотонно, монотонно
те же звуки повторяешь…
Но она очнулась вдруг
и движеньем быстрых рук,
звук со звуком сочетая,
заплетает звуки в круг.
и, как мошка золотая,
к нам в окошко залетая,
зазвенев, трепещет звук,
и дрожит, жужжа, как жук,
раскрывающийся тает.
и рыдающий ласкает
и, лаская, умолкает
обрывающийся звук.
Как китайские тени, игриво,
прихотливо скользят облака;
их капризы бесцельно красивы,
их игра и легка и тонка.
Это царство огня и фарфора,
ярких флагов, горбатых мостов,
механически стройного хора
восковых и бумажных цветов.
Здесь в стеклянных бубенчиках шарик
будит мертвую ясность стекла,
и луна, как китайский фонарик,
здесь мерцает мертва и кругла.
То горит бледно-розовым светом,
то померкнет, и траурно-хмур
к ней приникнет ночным силуэтом
из вечерних теней абажур.
Здесь никто не уронит слезинки,
здесь улыбка не смеет мелькнуть,
и, как в мертвенной пляске снежинки,
здесь не смеет никто отдохнуть.
Здесь с живыми сплетаются тени,
пробуждая фарфоровый свод,
это — праздник живых привидений
и воскресших теней хоровод.
Дай нам руку скорей, и в мгновеньи
оборвется дрожащая нить,
из фарфоровой чаши забвенья
станешь с нами без устали пить.
Будет танец твой странно-беззвучен,
все забудешь — и смех и печаль,
и с гирляндой теней неразлучен,
унесешься в стеклянную даль.
Ты достигнешь волшебного зала,
где единый узор сочетал
с мертвым блеском земного кристалла
неземных сновидений кристалл.
Ты увидишь, сквозь бледные веки
Фею кукол, Принцессу принцесс,
чтоб с ее поцелуем навеки
ты для мира живого исчез!..
«Смерти нет», — вещал Он вдохновенно,
словно в храме стало тихо в зале,
но меж нас поникших умиленно
двое детских глазок задремали.
Прогремел — и силою велений
в несказанном вдруг предстал величье,
но, склонившись к маме на колени,
задремала сладко Беатриче.
Он замолк, и стало все безгласным,
из безмолвия рождалось Слово,
и слилась с безмолвием ужасным
тишина неведенья святого.
Мальчик проснулся ужален змеею,
в облаке сна исчезает змея;
жгучей отравой, безумной тоскою
чистая кровь напоилась твоя!
Бедный малютка, отныне ты будешь
медленно слепнуть от черного сна,
бросишь игрушки и сказки забудешь,
детская станет молитва смешна.
Лепет органчика сладко-невинный
в сердце не станет и плакать и петь,
Божия Матерь с иконы старинной
вдруг на тебя перестанет смотреть!
Бабочки вешней живые узоры
сердцу не скажут про солнечный край,
женские грустные, строгие взоры
вновь не напомнят утраченный Рай.
Сам не поймешь ты, что сталось с тобою,
что ты утратил, бесцельно грустя,
и, улыбаясь улыбкою злою.
скажешь задумчиво: «Я не дитя!»