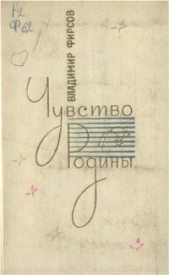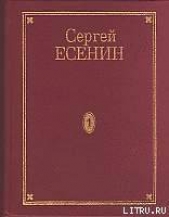Синей осенью, в двадцать девятом,
о руду навострив топоры,
обнесли мы забором дощатым
первый склад у Магнитной горы.
Друг на дружке досаду срывая,
мы пытали друг друга всерьез:
— Где ж Индустрия тут мировая,
до которой вербовщик нас вез?
Договоры подписаны нами,
дезертирами быть не расчет...
И пришлось нам в тот год с топорами
встать на первый рабочий учет.
До чего ж это здорово было!
Той же самой осенней порой
как пошла вдруг да как повалила
вся Россия на Магнитострой.
Обью, Вологдой, Волгою полой,
по-юнацки баской — без усов,
бородатою, да длиннополой,
да с гармонями в сто голосов.
Шла да грелась чайком без закуски,
по-мордовски — в лаптях напоказ,
сгоряча материлась по-русски,
по-цыгански бросалася в пляс.
Будто в войске, со всеми по-братски,
как на битву, союз заключив,
шли отметные шагом солдатским
то путиловцы, то москвичи.
И дивился народ, раскрывая
удивленные тысячи глаз:
— Где ж Индустрия тут мировая,
та, что из дому требует нас!..
А вокруг — только степь на полмира,
тусклым камнем рыжеет гора,
да навстречу идут бригадиры,
комитетчики да повара.
У костров, до утра негасимых,
под сияньем Полярной звезды
здесь во фрунт становилась Россия,
все народы скликая в ряды.
И отсель до морей ледовитых
отдавалося в каждой груди:
— Землекопы есть?.. — Мы!.. — Выходите!..
— Есть партийные?.. — Есть!.. — Выходи!..
Я партийным по юности не был
и в ударники шибко не лез,
и ржаного пайкового хлеба
мне хватало на ужин в обрез.
Жил я вроде без лени и страха,
может, слаб на большие дела,
и своя, пусть худая, рубаха
ближе к телу всегда мне была.
Но скажу безо всякой оглядки,
договор отработав сполна:
здешних мест голоса и порядки
переполнили сердце до дна
то ли ширью своей многолюдной,
всем открытой на страдный постой,
то ли близкою, завтрашней, чудной,
несказанной пока красотой.
И какую разгадку найти ей,
если дивную, грозную ту
кто — индУстрией, кто — индустрИей,
кто — гигантом зовет красоту.
Был мне люб ее образ и страшен:
весь в громах, в озаренном дыму,
свыше сказочных замков и башен,
недоступных уму моему.
И еще — будто крепость, могучей,
аж до неба, с железной трубой,
той, что станет щитом или тучей
над моей деревенской судьбой.
...Будто выдало время задаток,
чтоб ценой отработанных сил
жил и я под брезентом палаток,
под подушкой портянки сушил.
По гудкам поднимался до свету,
шел под бурями, щеки знобя,
кроме города, коего нету,
никаких городов не любя.
Да чтоб ждал я по собственной воле,
по денечкам считая года,
как заветного дня своей доли,
как великого часа, когда
встанет наземь в железной оправе
чудо-юдо — мудреный завод
и в деревню меня не отправит,
а в ученье к себе позовет.
Вот и ждал я, да сбился со счета,
сколько дней отстоял я в строю,
сколько гербовых грамот почета
заработал на душу свою.
И не счесть ни в кубах и ни в тоннах,
не упомнить, какое число
лесу, камня, земли да бетона
через руки мои перешло,
сколько жару да хмельного пота,
силы сердца, да мозга, да рук
забрала и дала мне работа —
высший курс постройковых наук.
Стал я чуточку старше и крепче,
и не раз довелось замечать,
кто-нибудь да и спросит при встрече:
«А по батюшке как величать?..»
А однажды сошлись на ночевку
все соседи мои за чайком.
Вдруг заходит охранник с винтовкой
и велит мне немедля в партком.
Время позднее, стужа снаружи,
на меня все глазеют молчком:
дескать, что ж, подпояшься потуже,
чай допей, запасись табачком.
Чай не в чай, а пугать себя нечем.
И пошли. К огонькам по прямой.
А пурга наседает на плечи,
а охранник молчит, как немой.
А в парткоме народу не меньше,
чем в нарядной у нас пред гудком.
Бригадир с первой домны, мой сменщик,
у порога шепнул мне: — Нарком!..
Ну вхожу я, дают мне дорогу.
Я опешил... А тут наш прораб
увидал меня, вышел к порогу,
тянет к центру: давно, мол, пора!
Только слышу, как громко да часто
бьется сердце мое на весь мир.
А прораб говорит: — Наш участок...
...по три нормы... бетон... бригадир...
Человек с обаятельным взглядом
глаз горячих, в искринках огня,
вдруг легко поднимается рядом
и глядит и глядит на меня.
И тогда задохнувшись огромным
рыбьим вдохом, я вымолвить смог:
— Добрый день... Я Егор... с первой домны...
Добрый вечер, товарищ... — и смолк.
То ли грудь от волнения сжало,
то ли сердце зашлось под пургой.
А нарком, как ни в чем не бывало,
руку сжав, подсказал мне: — Серго...
Никогда не игравший с мечтою,
я стоял наяву перед ним,
чести этакой вовсе не стоя
по трудам невеликим своим.
И при всех вдруг меня разуважил,
молвит, голосом ласку храня:
— Ну спасибо товарищам вашим,
вам — от Партии и от меня!..
Чем же было теперь отвечать мне,
если в жизни моей небольшой
ни высоких заслуг за плечами,
ни глубоких наук за душой.
А нарком — напрямик, без осечки —
сыплет мне за вопросом вопрос
про житье, про палатки, про печки,
про еду, да пимы, да мороз...
И, ни в чем не успев разобраться,
говорю, осмелев наконец:
— Это верно! Живем тут с прохладцей...
Так и я ведь мужик, а не спец!..
Улыбнулся он, двинул бровями:
— Что ж, прошу извинить за прием
да за то, что послали за вами
невзначай человека с ружьем...
А потом попрощался со мною,
сел на белый некрашеный стул
и, чуть-чуть покачав головою,
на прораба с укором взглянул.
Я не знаю, взаправду ли, в сказке —
каждый час, каждый день, каждый год
сам Железный нарком по-хозяйски
обходил все участки работ.
Будто б раз перед самым рассветом,
приглушив от волненья буры,
горняки его видели летом
на крутых горизонтах горы.
А под осень — на трапах плотины,
по приметам действительно он,
с бригадиром одним беспартийным
полчаса толковал про бетон.
По сугробным, невидимым тропам,
поздним вечером, в лютый буран
он зашел на часок к землекопам
в освещенный костром котлован.
Может, нами порой не примечен,
утомясь от бессонниц и дел,
для торжественных радостей встречи
беспокоить он нас не хотел.
И, по компасу путь выбирая,
шел пешком через ямы и тьму,
к первым стройкам переднего края,
лишь по картам знакомым ему.
Ну а люди легко разглядели,
самым сердцем подметив в тот час,
как шагает он в длинной шинели,
нахлобучив кубанку до глаз.
Каждый раз — и зимою и летом —
не по слухам, не зря, не тайком,
по своим незабвенным приметам
знали мы, что приехал нарком.
Эх, и мыкались братцы-завхозы,
окна мылись, и шторки цвели,
и прорабы метались, как грозы,
под ногами не чуя земли.
И не как-то бочком да вразвалку —
все начальники наши в момент
враз бросались к бетономешалкам
добывать нам песок и цемент.
Будто в праздник, на скатерти белой,
вся бригада, садясь у стола,
даже щи со сметаною ела,
даже чай с белым хлебом пила.
А по складам, конторам, столовым
шепотком, отдаваясь как гром,
проходило железное слово,
огнестрельное слово: «Нарком!»
И недаром, бывало, с устатку,
загораясь душевным огнем,
горожане в походных палатках
по ночам толковали о нем.
Дескать, наш, настоящий, народный
комиссар всех заводов и гор,
будто он еще в давние годы
вел с самим Ильичем разговор:
как Россию спасем да распашем,
доживем до великой поры,
станем строить индустрию нашу
у чудесной Магнитной горы.
...И теперь вот, по-воински туго
сжав солдатскую пряжку ремня,
он проходит, оставивший друга
тихо спящим сейчас у Кремля.
В самый полдень, на зорьке, ночами
он идет сквозь жару и сквозь снег,
строгий-строгий, железный начальник,
Ильичевой души человек.
...Мы вчера разобрали палатку,
перебрались в бревенчатый дом,
домну сдали под сборку да кладку,
вроде б с домной простились на том.
Желтой курткой шагреневой кожи
наградил меня нынче цехком...
Даже будни на праздник похожи
при отменном порядке таком.
И, возможно, взаправду как в сказке,
каждый час, каждый день, каждый год
мой товарищ Серго по-хозяйски
обходил все участки работ.