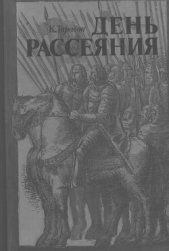Разные лица войны (повести, стихи, дневники)

Разные лица войны (повести, стихи, дневники) читать книгу онлайн
Перед вами уникальная книга, составленная из четырех блоков: дневники, повести и стихи, связанные общим временем и местом действия. Многие детали дневников находят осмысление в повестях, многие стихи оттеняют или выявляют подоплеку описанных в прозе событий. Пятый блок, «Сталин и война», подводит итог многолетним размышлениям К.М.Симонова о Сталине и его роли в огромном механизме великой войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пантелеев с минуту молча рассматривал ее и лишь потом начал задавать вопросы, к которым уполномоченный изредка добавлял свои. Женщина отвечала на все вопросы одинаковым голосом, равнодушно глядя в одну точку перед собой, независимо от того, о чем ее спрашивали и кто говорил с ней – Пантелеев или уполномоченный.
Пантелеев после первого же ее ответа понял, что уполномоченный прав – женщина действительно переправилась ночью вместе с немцами из Геническа и оставлена ими здесь. Она не отрицала этого, а когда ее спросили, что ей за это пообещали дать немцы, спокойно ответила, что они обещали ей полторы тысячи рублей.
Ее признание и полученное от нее подтверждение уже появившейся собственной догадки – что немцы могут переходить пролив по плохо взорванному мосту – исчерпывали практический интерес Пантелеева к задержанной. Однако он продолжал задавать ей все новые и новые вопросы, казалось, уже не имевшие прямого отношения к делу. Он ждал ответа на один главный вопрос, который беспокоил его сейчас: что случилось, почему эта вот сидящая перед ним простая, плохо одетая женщина стала тем, чем она стала, – немецкой шпионкой? Почему она согласилась служить немцам, которые пришли в Геническ всего три дня назад, немцам, которых она раньше не знала и не видела и с которыми ее до этого ничто не связывало?
– Пиши, Лопатин, пиши, – угрюмо говорил, все более расстраиваясь по мере допроса, Пантелеев. – Пригодится для истории. Если мы с тобой доживем до истории, – мрачно, не похоже на себя, пошутил он.
И Лопатин писал.
Женщине было 28 лет, она назвала большое село под Геническом, где она родилась в семье самого богатого из тамошних хозяев, у которого были уже после революции и мельница, и сельская лавка, и батраки, работавшие на арендованной земле. Отец в детстве, по пьяному делу, ударил ее поленом, разбил ключицу и на всю жизнь оставил свою и без того некрасивую дочь кособокой. Но он, сказала она, терпеливо, хотя и с удивлением, отвечая на вопросы, не имевшие, казалось, никакого отношения к тому, что происходило с нею сейчас, потом всю жизнь жалел ее и обещал за ней большое приданое.
– Всего много давал, трех коней давал, – сказала она, и впервые за время допроса потухшие, глубоко запрятанные глаза ее блеснули от этого воспоминания. Несмотря на ее уродство, небогатые женихи домогались ее. Наконец ее высватали, и ей уже мерещилась свадебная тройка, свой дом, отцовское приданое, а вместо всего этого началось раскулачивание. Отца раскулачили первым в селе, и он с матерью и старшими братьями поехал в теплушке куда-то на север – говорили, в Кемь – и сгинул там навсегда. Почему ее не выслали, оставили, она не сказала, а Пантелеев не спросил. Может быть, потому, что ей не исполнилось еще восемнадцати.
Жениха сразу как ветром сдуло, словно его и не было, потому что вместо завидной невесты с богатым приданым, домом и тройкой коней осталась уродливая девушка с перебитым плечом, никому не нужная, никем не желанная, да еще раскулаченная, без кола и двора. Она ушла из села в Геническ, ходила с постирушками, мыла полы, была на поденной работе, а под конец устроилась судомойкой в городской столовой, снимая углы то у добрых, то у недобрых людей. Кто знает, что творилось в ее душе все эти годы, но ее глаза, сверкнувшие снова, во второй раз, сказали Лопатину, который, следя за выражением ее лица, писал, почти не глядя на бумагу, что, наверное, в душе ее царил такой ад разрушенных надежд и нестерпимых воспоминаний о несостоявшемся женском счастье, что этим одиноко запертым в душе чувствам, пожалуй, не подберешь и названия.
За год перед войной в Геническ вернулся ее троюродный брат, тоже из раскулаченных. Вернулся с документами на имя кого-то другого, умершего в ссылке.
– Сбежал? – спросил Пантелеев.
– Может, и сбежал, – равнодушно сказала она.
На первых порах она стала подкармливать его, вынося ему по вечерам из столовой все, что попадалось под руку, а он, в благодарность за это, стал жить с ней. Потом, осенью, его, так под чужой фамилией, и взяли в армию, и он уехал в часть под Измаил. А три дня назад пришел в Геническ вместе с немцами. Он рассказывал ей, что служит у них в комендатуре, приносил немецкую водку и по ночам спал с ней, как раньше. Вчера он пришел к ней среди ночи и сказал, чтоб она шла с ним. Она пошла, не расспрашивая. Они сначала сидели на берегу и слушали стрельбу внизу, под Геническом, на стрелке, а потом сели в лодку вместе с немецкими солдатами и переехали сюда, на косу. При этом она видела, как другие немцы в это же время переходили пролив по взорванному мосту. Он велел ей, пока не рассвело, дойти до пионерлагеря, а потом пойти в деревню Геническая Горка и еще дальше, на соляные промыслы, и посмотреть, много ли там советских или немного, есть ли пушки и где они стоят. Он велел ей, если ее спросят в Генической Горке, откуда она, чтобы она ответила: «С сольпрома», а если ее спросят об этом же на сольпроме, сказала бы наоборот, что она из Генической Горки. И еще он велел ей подождать, пока стемнеет, и ночью выйти берегом обратно к мосту, он будет ждать ее там. Он сказал, что, когда она вернется, немцы дадут ей полторы тысячи, а может, и больше.
Когда она перестала вспоминать о прошлом, глаза ее снова потухли, и обо всем, что произошло вчера и сегодня, она говорила бездушно, без раскаяния и сожаления.
Она просто рассказывала все, как было, не выражая никаких чувств, в том числе и чувства страха. Лишь один раз, говоря про то, как ее сожитель пришел за ней ночью и повел ее на берег, она вдруг сказала: «И я пошла за ним, как собака...» Но это тоже не было самоосуждением: просто она до предела точно выразила одной фразой все их отношения. Он был единственный, кто снизошел до нее, жил с ней раньше и жил с ней сейчас, и она пошла за ним, как собака, туда, куда он велел, и сделала то, что он велел.
О полутора тысячах она сказала с бесстыдной простотой – это было не главное, главное было то, что он ей велел.
Ответив на последний вопрос, она подождала, не спросят ли ее еще, потом облизала пересохшие губы и вытерла их кончиком платка.
– У, ведьма, – раздался звонкий и злой девичий голос за спиной Лопатина. – Так бы и стрелила тебя!
Он повернулся. Сзади него стояла неизвестно когда взявшаяся здесь шоферка – Паша Горобец.
Задержанная вскинула на нее глаза, и они долго смотрели друг на друга: черная тихая женщина, похожая в своей неподвижности на узел темного тряпья, из которого торчали только лицо и толстые ноги, и звонкая, вся как струна, натянувшаяся от негодования, голубенькая шоферка, с голыми коленками, голыми до локтей, сжатыми в кулаки руками, с растрепавшимися во время езды и упавшими на шею косичками желтых пыльных волос.
– На сольпром к нам ходила, – сказала девушка, и голос ее задрожал от гнева. – За сольпромовскую хотела себя выдать... – Это, казалось, сердило ее больше всего. – Я на сольпроме всех знаю, я сама сольпромовская, и никогда она сольпромовской не была, – обращаясь к Пантелееву, продолжала шоферка, и чувствовалось, что это очень важно для нее – что черная женщина не сольпромовская и что на сольпроме никогда таких не бывало.
– А она и не говорит, что она сольпромовская, – сказал Пантелеев, – она геническая, да и не геническая она, а немецкая. Пришли фашисты, и пошла за ними, как собака, – по-своему повертывая то, что сказала женщина, добавил Пантелеев, вставая.
– Чего на нее смотрите, товарищ начальник, стрелите ее, и все, – просто, как о чем-то само собой разумеющемся, сказала шоферка. Потом помолчала и, уже ни к кому не обращаясь, отвечая на свои мысли, задумчиво и убежденно добавила: – Я бы ее стрелила.
– «Стрелить» успеем, – сказал Пантелеев, – а вот посмотреть на нее – что в нашей жизни бывает, это надо! Смотри на нее, Паша, – повернулся он к девушке. – Смотри как следует и запоминай.
– А чего мне ее запоминать, – с неожиданной обидой в голосе отозвалась она. – Очень мне надо ее запоминать... – И в этих простых словах была такая сила чистого девичьего презрения, что Лопатин невольно залюбовался ею.