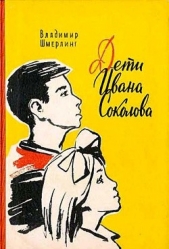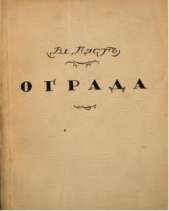Мой товарищ,
сегодня ночью
На Четвертой Мещанской
с крыши
Снег упал и разбился в клочья
Под надорванною афишей.
Как живешь ты?
Куда ты скачешь?
Как от аха летишь до вздоха?..
Где и что
про тебя ни скажешь —
Получается очень плохо.
Говорю, удивляя граждан,
Обожающих просторечья:
Я люблю твои лица.
В каждом
Есть от сутолоки столетья.
Но одно лишь неоспоримо,
Навсегда, сквозь любые были:
То, единственное, без грима,
За которое полюбили.
Не отделаешься от славы,
Даже если томит дорога.
Говорят, ты играешь слабо —
Отсебятины слишком много.
Это к лучшему. Так! И выше.
Облака как немая карта.
Вьются клочья большой афиши,
Как последние хлопья марта.
1969
Интеллигентной милой недотрогой
Сидела б дома возле мамы строгой,
Задумав свой лесной пейзаж с дорогой.
Он целый год туманился во мне.
И в тишине. И в шуме. И во сне.
Я рассказал — мы тут как тут.
С треногой.
Знай черный ворон каркает в лесу.
Не «никогда», а «навсегда» вопит он.
Поскольку плохо, видимо, воспитан.
Сосну заденет, мглой веков пропитан, —
Сосна роняет иглы и росу.
Огромный бор.
Он нынче свеж и темен.
Поскольку ливень тоже был огромен,
Как ворон древен и как голубь чист.
А ты, мое любимое созданье,
Уже бежишь, не приходя в сознанье,
Когда к тебе осина тянет лист.
Стой, у рябины — ягоды в горсти.
Возьми.
Знакомых дома угости.
Черт надоумил взять тебя с собой.
Да. Я влюблен в свою же ученицу.
И даже — хоть сейчас готов жениться…
Какой, однако, все же разнобой.
Столбы лучей сияют меж стволами.
Взлетает ворон, каркая над нами
Уже по-иностранному почти.
На «невермор» от злости переходит.
От черных крыл вершины так и ходят.
А ты дрожишь.
Тебя волненье сводит.
Я понимаю, бог тебя прости.
Ты говоришь: а где ж пейзаж с дорогой?
Вот это все и есть пейзаж с дорогой.
А впрочем, там, за выселкой убогой,
Есть электричка…
Клумбы. И пути.
Я повторяю: вот пейзаж с дорогой.
Гуляй.
Но красок масляных не трогай.
Ширяет черный ворон над треногой
В художническом пристальном лесу.
Он чует запах, душами пропитан.
Не «никогда», а «навсегда» вопит он.
Качнет сосной, поскольку так воспитан, —
Сосна уронит иглы и росу.
Еще ты будешь счастлива, я знаю.
Смотри, как тянет просека лесная.
Ее считать дорогою не след.
Вернусь сюда один,
На склон пологий.
Под шум вершин.
Я не собьюсь с дороги.
Я не скажу тебе, что весь секрет
В том, что дороги не было и нет.
Она пройдет сквозь строй стволов в итоге.
Просветом. Птицей…
Мало ли примет?
1969
Пишу, а сам уже не понимаю,
Кого письмом нелепым донимаю,
Кому, зачем, о чем напоминаю?
Вы все смешались у меня в уме.
Еще чуть жив один последний абрис,
Но я забыл его обратный адрес,
Он так расплылся, этот абрис бедный,
Как бледный промельк чей-то в полутьме.
Я уходил — меня вы находили.
Я приходил — вы тотчас уходили.
Так, значит, что ж, разлуки все же были?
Ведь вы навзрыд холсты мои рубили;
Сбегали плача (от любви ко мне?).
Я понимаю, это очень трудно —
Знать, что художник — это неподсудно.
И не ославит, и что есть — оставит.
Ну разве что прославит.
«Но кого?
Ведь на ином московском вернисаже
Себя самой и не узнаешь даже.
А вся толпа опять вокруг него.
Какое „испытанье на разрыв“?
Вы! На разрыв испытывали женщин.
Те, кто увенчан,
И те, кто развенчан.
Как сладок был кратчайший перерыв.
В индустриальном явимся пейзаже.
Со счетоводом полежим на пляже.
Устроимся. Найдем.
Но все же даже…
Какой-то отблеск ваш — зачем он жив?»
Любимая, прости. Я не премину.
Но я сейчас пишу одну картину!
Но я забыл: с которой говорю?
Я вспомню всех.
Но я ломаю руки.
Ведь я пишу картину о разлуке.
Я вас любил.
Любя, а не от скуки.
И за разлуки
не благодарю.
Я вспоминаю только встречи, встречи,
Чистейшие, как снег, черты и речи.
Улыбки ваши, слезы, очи, плечи —
И жду свою последнюю зарю.
1969