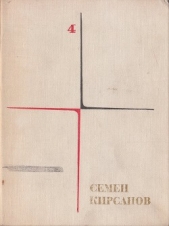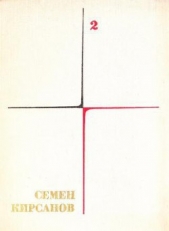В уснувшем лагере
после рассказа
в свой сон заглядывали
два черных глаза,
где плыл наплывом
ландшафт Кавказа.
Вовсю, на славу
спал наш рассказчик,
он был по нраву
из крепко спящих.
Спал, чутко вздрагивая
на каждый шорох,
друг молчаливый, как бы в тревоге
за тех, которых
обвал и ливень застал в дороге.
Уснул и ветер.
Мне ж не лежалось под парусиною.
Во мне все жаловалось
и обижалось
на безвершинное житье на свете.
Где мой сверкающий
подъем на гребень,
на снежный краешек,
где никогда еще никто и не был?
Где — над простором
хрусталь чертога —
цель, без которой пуста дорога?
Найдется ль вскоре?
Я даже в этом высокогорье,
седом, туманном,
не восходитель,
а только зритель с входным билетом
перед экраном.
С такой тоскою я шел вдоль склона
перед рекой ледниковой, сонной.
Как странен вечер!
Нет рядом тени.
Из льда изваянный,
плыл спящий глетчер,
неся развалины
землетрясений.
«Вот тишь…» — я думал.
Вдруг ветер сдунул
с ночных верховий комок пуховый
реке навстречу.
Со скарбом, скопленным
в горах заснеженных,
ледник плыл толпами
замерзших беженок.
Синь стала гуще. Сильней подуло
тревожным гулом
толпы бегущей.
Раскинув перья, плыл небом хаос.
Не шел теперь я —
брел, спотыкаясь.
И словно коваными каблуками,
стучали камни,
спасаясь бегством.
А мрак разросся.
Теперь он несся, стеною снега
метя по безднам.
И неизвестно: где флаг ночлега,
где плечи, лица,
рука, чтоб взяться,
остановиться?
Нет! В злобно воющем
концерте фурий
я стал такою же
частицей бури,
как снег, как камень,
со склона сорванный,
маша руками
назад и в стороны,
земли не чувствуя,
но все же зная
обрывком мысли,
что это буйствует
дух гор, хозяин
Памирской выси.
Внизу — потопом опустошительным
он несся с топотом
к долинным жителям
ордой, толпою, ночным набегом,
а здесь — крупою и мокрым снегом
в чернейших перьях,
как джин на сцене,
он шел — соперник землетрясений,
в смерчах вращающий
камни и градины,
дух, превращающий
в озера впадины,
творящий горы и водопады, —
вихрь, от которого
не жди пощады!
Мрак мутью месится,
все небо кружится,
я вместе с лестницей
несусь обрушившейся,
в туманной пене,
со снежной кашей
перемешавшей
мильярд ступенек.
Рев нападенья
орды всех демонов.
И — дело сделано.
Толчок паденья.
На дне паденья
стал грохот лепетом.
Пурга затихла.
С лицом залепленным
из массы рыхлой
я встать попробовал.
Но был сугроба вал
глубок и влажен.
Терпел я бедствие.
Так, помню в детстве я:
мурашек, пойманный
в песке на пляже,
подняться тщился.
В песок проваливаясь,
он так карабкался,
так копошился.
И я ворочаюсь
так — в свою очередь.
Плечом, спиною
разгреб сугроб я
и к свету вылез.
Вот надо мною
вновь появились
чертоги черные
с полоской неба.
Но это не были
вершины горные.
Встав, словно тени
и льдом обвешанные,
чернели стены глубокой трещины —
два бока щели,
где, пойман опытным ловцом в погоне,
я — как прихлопнутый
меж двух ладоней.
Мысль впилась в разум,
я понял сразу:
конца начало. Башня Молчания!
И закричало
во мне отчаяние.
Я в сумрак сизый
вгляделся.
Где он, проход для жизни?
Нет! Я заделан,
вмурован в стену.
Хотя б карниз мне.
Но нет уступок.
Здесь ни уступа.
Высокой тенью,
старинной кладкою,
кой-где коробясь,
до боли ровная, до крика гладкая,
отполированная стояла пропасть.
Погиб! Не выползти
под облака мне.
О том, чтоб выпустил,
не скажешь камню.
Кому пожалуешься?
У скал — где жалость?
И щель безжалостно вверху сужалась.
Теперь ни вех,
ни троп, ни флага,
ни взгляда вверх,
вперед ни шага…