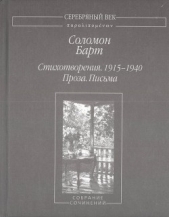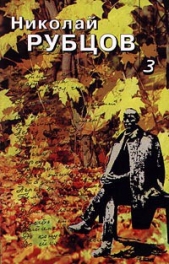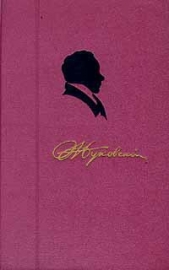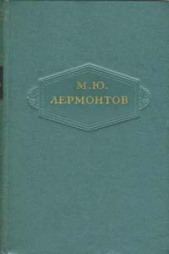Том 4. Проза. Письма.

Том 4. Проза. Письма. читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Чего вы хотите! – сказал он твердым голосом…
– А! Старый ворон! Старый филин!.. Мы тебя выучим воздушной пляске… пожалуй-ка сюда… да выходи же! – сказал один, подтверждая приказание ударом плетью…
Старик медленно вышел из кибитки, дочь выпрыгнула вслед за ним, уцепилась обеими руками за его платье, – «не бойся! – шепнул он ей, обняв одной рукою, – не бойся… если бог не захочет, они ничего не могут нам сделать, если же»… он отвернулся… о, как изобразить выражение лица бедной девушки!.. Сколько прелестей, сколько отчаяния!..
– Разнимите их! – закричал один кривой исполин, приготавливая петлю. – Что они лижутся!..
Их хотели растащить… но девушка в бешенстве укусила жестокую руку… «перестань! – сказал отец твердым голосом! – ты этим не поможешь, если мне суждено погибнуть от злодейских рук, без покаяния, как бусурману…»
– Не может быть! Не может быть, батюшка… ты не умрешь!
– Отчего же, дочь! Не может быть?.. И Христос умер!.. Молись…
Она отрывисто качнула головой – и заплакала…
Боже! Какие слезы!..
Несмотря на это, их растащили; но вдруг она вскрикнула и упала; отец кинулся к ней, с удивительной силой оттолкнул двух казаков – прижал руку к ее сердцу… она была мертва, бледна, холодна как сырая земля, на которой лежало ее молодое непорочное тело.
– Теперь пойдемте, – сказал старик; его глаза заблистали мрачным пламенем… он махнул рукою… ему надели на шею петлю, перекинули конец веревки через толстый сук и… раздался громкий хохот, потом вдруг молчание, молчание смерти!..
Но увы! Еще не кончились его муки; пьяные безумцы прежде времени пустили конец веревки, который взвился кверху; мученик сорвался, ударился о-земь, – и нога его хрустнула… он застонал и повалился возле трупа своей дочери. «Убийцы! – прохрипел он… – вот вам мое проклятье! Проклятье!..» – «Заткни ему горло!» – сказал Орленко… это было сожаленье…
Два ножа в минуту воткнулись в горло старика, и он умолк.
Когда казаки, захотев увериться в его кончине, стали приподнимать его за руки, то заметили, что в последних судорогах он крепко ухватил ногу своей дочери, впился в нее костяными пальцами, которые замерли на нежном теле… О, это было ужасно… они смеялись!..
Божественная, милая девушка! И ты погибла, погибла без возврата… один удар – и свежий цветок склонил голову!.. Твое слабое сердце, как нить истлевшая – разорвалось… Ни одно рыдание, ни одно слово мира и любви не усладило отлета души твоей, резвой, чистой, как радужный мотылек, невинной, как первый вздох младенца… грозные лица окружали твое сырое смертное ложе, проклятие было твоим надгробным словом!.. Какая будущность! Какое прошедшее! И всё в один миг разлетелось; так иногда вечером облака дымные, багряные, лиловые гурьбой собираются на западе, свиваются в столпы огненные, сплетаются в фантастические хороводы, и замок с башнями и зубцами, чудный, как мечта поэта, растет на голубом пространстве… но дунул северный ветер… и разлетелись облака, и упадают росою на бесчувственную землю!.. Мир с тобою, дева красоты, да ангел твой хранитель споет над твоим прахом песнь мира, любви и прощанья…
А между тем Вадим стоял неподвижно, смотрел на нее и на старика так же равнодушно и любопытно, как бы мы смотрели на какой-нибудь физический опыт! Он, чье неуместное слово было всему виною…
Погодите, это легко объяснить вам.
Во-первых, он хотел узнать, какое чувство волнует душу при виде такой казни, при виде самых ужасных мук человеческих – и нашел, что душу ничего не волнует.
Во-вторых, он хотел узнать, до какой степени может дойти непоколебимость человека… и нашел, что есть испытания, которых перенесть никто не в силах… это ему подало надежду увидать слезы, раскаяние Палицына – увидать его у ног своих, грызущего землю в бешенстве, целующего его руки от страха… надежда усладительная, нет никакого сомнения.
Уж было темно; огни догорали, толпа постепенно умолкала, и многие уж спали беззаботно…
Луна, всплывая на синее небо, осеребрила струи виющейся речки и туманную отдаленность; черные облака медленно проходили мимо нее, как ночной сторож ходит взад и вперед мимо пылающего маяка…
Вадим сидел на своем прежнем месте, под толстой березой, сложа руки и угрюмо глядя на небо. К нему подошел Орленко:
– Посмотри, как весело! Отчего ты один сердит, задумчив, горбач? – сказал он, ударив его по плечу.
– Ты видишь это облако, которое как медвежья косматая шуба висит над месяцем?.. – отвечал Вадим, приподняв голову с презрительной усмешкой.
– Вижу!
– Ну а как ты думаешь, что таится в глубине его?..
– Что?.. По-моему, гром и молния – вишь как насупилось…
– И ты спрашиваешь, зачем я угрюм и молчалив?..
Орленко, не поняв горбача, пожал плечами и отошел прочь…
Глава XXIV
Теперь оставим пирующую и сонную ватагу казаков и перенесемся в знакомую нам деревеньку, в избу бедной солдатки; дело подходило к рассвету, луна спокойно озаряла соломенные кровли дворов, и всё казалось погруженным в глубокий мирный сон; только в избе солдатки светилась тусклая лучина и по временам раздавался резкий грубый голос солдатки, коему отвечал другой, черезвычайно жалобный и плаксивый – и это покажется черезвычайно обыкновенным, когда я скажу, что солдатка била своего сына! Я бы с великим удовольствием пропустил эту неприятную, пошлую сцену, если б она не служила необходимым изъяснением всего следующего; а так как я предполагаю в своих читателях должную степень любопытства, то не почитаю за необходимость долее извиняться.
– Ах ты лентяй! Чтоб тебе сдохнуть… собачий сын!.. – говорила мать, таская за волосы своего детища.
– Матушки, батюшки! Помилуй!.. Золотая, серебряная… не буду! – ревел длинный балбес, утирая глаза кулаками!.. – я вчера вишь понес им хлеба да квасу в кувшине… вот, слышь, мачка, я шел… шел… да меня леший и обошел… а я устал да и лег спать в кусты, мачка… вот, когда я проснулся… мне больно есть захотелось… я всё и съел…
– Ах ты разбойник… экого болвана вырастила, запорю тебя до смерти… – и удары снова градом посыпались ему на голову. «Чай, он, мой голубчик, – продолжала солдатка, – там либо с голоду помер, либо вышел да попался в руки душегубам… а ты, нечесаная голова, и не подумал об этом!.. Да знаешь ли, что за это тебя черти на том свете живого зажарят… вот родила я какого негодяя, на свою голову… уж кабы знала, не видать бы твоему отцу от меня ни к…..а!» – и снова тяжкие кулаки ее застучали о спину и зубы несчастного, который, прижавшись к печи, закрывал голову руками и только по временам испускал стоны почти нечеловеческие.
И за дело! Бедные изгнанники по милости негодяя более суток оставались без пищи, и отчаяние уже начинало вкрадываться в их души!.. И в самом деле, как выйти, где искать помощи, когда по всем признакам последние покровители их покинули на произвол судьбы?
Между тем, пока солдатка била своего парня, кто-то перелез через частокол, ощупью пробрался через двор, заставленный дровнями и колодами, и взошел в темные сени неверными шагами; усталость говорила во всех его движениях; он прислонился к стене и тяжело вздохнул; потом тихо пошел к двери избы, приложил к ней ухо и, узнав голос солдатки, отворил дверь – и взошел; догорающая лучина слабо озарила его бледное исхудавшее лицо… не говоря ни слова, он в изнеможении присел на скамью и закрыл лицо руками…
Хозяйка вскрикнула при виде незваного гостя, но вскоре, вероятно узнав его и опасаясь свидетелей, поспешно притворила дверь и подошла к нему с видом простодушного участия.
– Что с тобою, мой кормилец!.. Ах, матерь божия!.. Да как ты зашел сюда… слава богу! Я думала, что тебя злодеи-то давным-давно извели!..
– Случайно я нашел батюшку в Чертовом логовище, – отвечал он слабым голосом… – ты его спасла! Благодарю… я пришел за хлебом.
– Ах я проклятая! Ах я безумная! – а вы там, чай, родимые, голодали, голодали… нет, я себе этого не прощу… а ты, болван неотесанный, – закричала она, обратясь к сыну, – всё это по твоей милости! Собачий сын… и снова удары посыпались на бедняка.