Легкое бремя
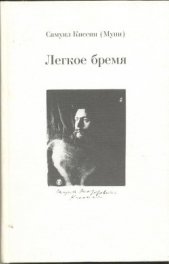
Легкое бремя читать книгу онлайн
С.В. Киссин (1885–1916) до сих пор был известен как друг юности В.Ф. Ходасевича, литературный герой «Некрополя». В книге он предстает как своеобразный поэт начала XX века, ищущий свой путь в литературе постсимволистского периода. Впервые собраны его стихи, афоризмы, прозаические фрагменты, странички из записных книжек и переписка с В.Ф.Ходасевичем. О жизни и судьбе С.В.Киссина (Муни) рассказывается в статье И.Андреевой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Немного, может быть, менее он был безразличен, когда рассказывал довольно дикие маленькие сказки, должно быть, своего сочинения. Он называл их почему-то австралийскими. Помню я также, что он был очень чувствителен ко всякому стуку, дребезжанию, чирканью, хотя обычно был всегда спокоен. Беспечность его мне сначала нравилась. Но когда он беспечно ел мою колбасу и лежал на моей постели, беспечно позволял всюду за него платить, мне это надоело. Я стал к нему холодней, часто просил не приходить ко мне, ссылаясь на занятия. Он, кажется, понял, стал как-то робче. Мне стало его жалко. Но встречались мы все реже. Однажды, когда меня не было дома, он занес для К. готовальню. Его положение было бедственное, а он не заложил, не продал ее. Это меня очень тронуло. Я хотел разыскать его. Но его нигде не было. Теперь он утонул. Что-то нужно выяснить, и я для этого еду в Н. Вот каковы дела.
Дорога скучная. То березы, то поля. Еду я, понятно, в третьем классе, так как деньги на проезд мне только обещаны, а просить у отца много денег неловко, да у него много-то и нет. В вагоне жарко, пыльно и тесно. Когда я вылез в Н., я объяснил носильщику, кто я таков, попросил его указать мне присланных Мелентьевым лошадей. Мелентьева на станции знали хорошо и почитали как богатого помещика. Носильщик указал мне его самого. Это был высокий, тонкий молодой человек, очень молодой, очень худой и очень некрасивый. Он сидел за отдельным столиком перед стаканом чая с погасшей сигарой. В панаме, очень хорошо сидевшем платье, красных перчатках с изжелта серым безбородым лицом, он напомнил мне почему-то японское изделие. По всему было видно, что он умеет владеть собой. Я подошел и назвал себя. Он снял шляпу:
— Мелентьев Василий Николаевич. Не имею чести знать вашего имени, отчества…
— Николай Анатольевич.
— В моем имении, Николай Анатольевич, в 7-ми верстах отсюда жил в это лето ваш и мой знакомый Александр Никитич Большаков. Приехав сюда третьего дня из-за границы с одной Александру Никитичу и мне знакомой дамой, я узнал, что в этот день было вытащено из воды тело за четыре дня перед тем исчезнувшего Александра Никитича. Я распорядился его тело перевезти в мое имение. Моя спутница стала больна. Она теперь так— же у меня. В бумагах Александра Никитича я нашел ваш адрес, а так как в последнее время Александр Никитич жил уединенно, то я пригласил вас для выяснения обстоятельств, так как можно предполагать, что Александр Никитич покончил с собой. Повторяю, последнее время он жил очень уединенно, его прежние друзья его не встречали. Ваш адрес был единственным доказательством его сношений с людьми, оттого я и осмелился Вас вызвать. Завтра здесь будет Сергей Андреевич Берсенев, человек, знавший Большакова больше меня и раньше Вас. Удастся ли нам установить причины смерти Александра Никитича? Зачем устанавливать их? Это воля Маргариты Васильевны, моей спутницы, хорошо знавшей Большакова и дружившей с ним. Вот, Николай Анатольевич, его карточка. Труп похоронен у меня в имении, в склепе,
На карточке был снят труп, весь в синеватых лохмотьях, как разорванный матрац. Совсем не страшно, но очень противно. Мелентьев предложил мне чай. Я отказался. Мы сели в хороший экипаж, запряженный парой, и поехали, пыля. В речи Мелентьева были одновременно сухость, деловитость и лень, не лень вообще, а лень к тому, что он говорит, и порой какой-то иностранный оттенок. По дороге он был вежлив, просил не рассказывать ничего о Большакове, так как мне в таком случае придется повторить все вновь и Маргарите Васильевне, а это очень скучно. Странные, однако, приятели у этого Большакова. Навряд ли Мелентьев имеет какое-нибудь отношение к ночным чайным.
Мы очень мало разговаривали дорогой. Но было во всем что— то, говорившее мне, что поездка эта не напрасна, что во всяком случае здесь интереснее жизнь, чем в Привольске, в тесной квартире, где отец по вечерам играет на гитаре и рассказывает о своих прежних и нынешних начальниках и сослуживцах… У меня очень хорошее зрение, но я ничего не запоминаю из того, что вижу, ничего не замечаю. Восхищение природой, картинами, домами мне всегда казалось выдуманным. Я помню только лица, люблю на них смотреть, и мне кажется, я недурно разбираюсь в людях. Что ж, ведь я не больше, чем то, что я есть. Я студент-медик второго курса из довольно глухой провинции, из очень небогатой семьи. Мне и не к лицу всякие тонкости. Но здесь, в этом Мелентьеве, его костюме, сигаре, паре лошадей я вижу что-то иное чуждое и интересное для меня. Большаков не гостил у Мелентьева, а жил один в имении, потом вдруг утопился. И теперь четыре человека с разных сторон съезжаются устанавливать причину этого. Вероятно, мы будем рыться в его бумагах, рассказывать друг другу, что о нем знаем. Мне, пожалуй, нужно будет преувеличить нашу близость. И какие это люди? Тонкие, интересные, богатые. Наверное, дегенераты малость. Посмотрим. Деньги за проезд не пропадут. А вдруг забудет? Ведь им все нипочем.
Наконец мы приехали. На берегу большого озера в парке стоял дом — большой, деревянный, удобный и безобразный. Мы вошли на террасу. Там на диване сидела дама в каком-то красном капоте с обвязанной головой. Если голова болит, ее нельзя так обвязывать. Зачем же она навертела эдакую чалму? В лице у нее что-то цыганское, восточное. Может быть, от чалмы?
Мелентьев представил меня. Она подала мне руку и оглядела меня. Странный взгляд: не то мужской, раздевающий, не то, как у подростка, любопытный…
<1907>
Легкое бремя
А если сон виденья посетят?
Гамлет
1.
Жизнь моя была спокойна. Ровно, тихо и незаметно, похоже друг на друга шли дни: спокойная служба, ровная привязанность-дружба к жене, ясное, чуть щемящее сознание заполненной пустоты. Да, заполненной пустоты, ибо никакой полноты, никакой живости я никогда не ощущал. Только страх смерти да порой зависть мешали ровному течению дней. Но это — иногда. Счастье мое, состоящее из жены, маленькой квартиры и музея, было неизменно: Антипьевский — Знаменка — и назад. Вот и все. Завтрак, занятия, обед, прогулка. Больше ничего не было.
Так ли?
Нет, должно быть, не так. Я слабо сознаю (тут не умственная — душевная слабость моя): жену я любил. Без музея, без квартиры мне тоже было бы трудно, но не так. Я мог представить себя не в городе, не в музее — ведь был и отпуск (положим, скучно), но без жены — нет. Правда, мы с ней мало говорили: больше музейные новости или что-нибудь домашнее, но в своем самодовольстве я представлял ее себе такой же, как я. А она не мешала этому ослеплению. (Теперь-то я знаю: она была иной.)
Она не говорила, что хочет другой жизни, что не любит, что разлюбила меня такого. Зина просто ушла. Ни с кем. Ни к кому. Без попыток примириться, объясниться, без трагического, без трогательного. Может быть, ей было жаль меня. Может быть, я был ей отвратителен. Ее обращение, ее слова, манеры не изменились и в последний день. Она просто ушла. И я остался с моим музеем, квартирой и майоликовыми часами в гостиной.
Ушла Зина весной.
2.
Это меня ошеломило. Но ненадолго. Я скоро все понял. Я не пришел в отчаяние, не бесновался (куда уж мне!) Покорился я? Нет, это была не покорность. Разве когда умирает ваш старый отец, вы покоряетесь? — Нет. Покоряешься неизбежному — естественное принимаешь. Тут разные стороны. Значит, во мне всегда жила мысль о таком конце? Значит, я бессознательно ожидал его? Ну, что же, и все-таки ничего горше со мной не могло случиться. Бессонные ночи мои, тоска моя, простая, тупая, естественная тоска моя, — вы свидетели этому.
Да тут все это началось.
Майоликовые часы били двенадцать, час, два, отсчитывали остальное время. Все те же часы, — только прежде я не слышал их боя ночью.

























