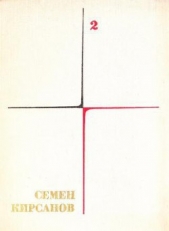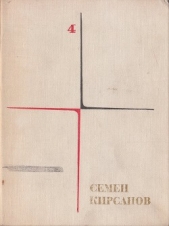Добрый вечер!
Добрый век!
Время — снова стихами чудесить,
распахнуть молодые года!
Заходите сюда
ровно в десять.
Собираемся точно, — сегодня,
здесь,
у елки моей новогодней.
Тридцать первое декабря —
бал Земли и Зимы,
вечер в играх и вихрях.
Ветки — зеленый дикообраз
с множеством глаз на иглах.
Этот вечер повсюду и здесь —
снега, смеха
несметная смесь,
это — встреча Нового года,
но особого, нового рода!
На розах с лавровыми листьями —
в календарной картонке —
покоится тонкий
декабрьский
единственный листик
с еще не оконченной датой —
только час проколышется
год,
называемый
«Тысяча
девятьсот девяносто девятый».
Около сияющей елки
в светелке,
не похожей на наши,
где воздух не домашний,
а горный,
около иголковой елки,
где зеленые ежики, —
долго собираются люди,
удивительно на нас похожие.
Добрый вечер!
Добрый век!
До бровей — поседелая шапка.
Снега — охапка до век.
Щеки с холода — ну и алы же
Лыжи поставьте,
пьексы снимите
и подымайтесь греться наверх.
Тут
растрещался камин
в искрах искусственных дров.
Живые деревья лет сорок не рубят!
Любят, что просто растут.
Воздух здоров,
и исчезло древнее прозвище «дровосек».
Заходите сюда,
Добрый век!
Дед
примчался па авиасанках!
Новогоднее наше —
хозяину!
Молодая осанка
у старика.
Дать нельзя ему
и сорока.
Над бровями одна вековая морщина.
Звездою
украшена елки вершина.
Это дед —
заслуженный деятель неба,
сиятельный труженик звезд —
первый подвесил на эту
зеленую гостью тайги
новооткрытую золотую планету.
Помните старый обычай:
вешать на ель
нити медной фольги,
клочья ватного снега,
конфетные банты,
шары из стекла,
пустые и ломкие комнатки смеха?
Все это есть.
Но выпала елке особая честь:
ее украшают вещами
не покупными, не взятыми в долг.
(Никому, ничего, ни за что
не продается,
а просто дается.)
И гости на елку вешают то,
что особенно людям
в году удается.
Здесь и в будень —
душевная ширь:
целый год
люди делают людям,
от души,
массу разнообразных подарков!
то — одежда и обувь,
дома и тома,
то — мосты с полукружьями арок,
то — байдарки под ними,
корабли с парусами цветными.
Каждый — каждому
строит подарки,
не думая, кто их получит.
Просто ставят на видное место
чудеса
из железа, из шерсти, из теста,
из чисел, из мыслей…
Люди мыслят:
«Какой бы получше,
прочнее, душистей
выдумать, выковать, вышить
в коммуне
кому-нибудь
свой ежедневный подарок?»
То,
что тут
называется «труд», —
как цветы подбирают любимым,
как поэт — потрясающий сердце повтор,
Тут монтер
собирает мотор,
как впервые
человек создавал чудеса паровые.
Хлеб пекут,
будто скрипку свою
мастерит Страдиварий.
И с волнением лаборантка
открывает формулу клетки,
как Эйнштейн уравненье миров.
И зеленой богине
на хвойные ветки —
образцы
ежедневных даров.
А дом,
где небом заведует дед,
надет
на наклонную мачту.
Дом похож на планету Сатурн.
Ось
в высоту.
Кольцо для прогулок
осыпано снежной пыльцой,
и рефлектор смотрится небу в лицо.
Сотни
новых домов
выше облак высотных,
и горы,
и звезды,
и сосны.
Но это не город,
скорее село
на Оке.
Хвойные чащи,
лед, как стекло, на реке.
И хотя январь жесточайший, —
невдалеке
построено жаркое лето.
Водная станция,
в полночь дневная от света.
Жара из мороза устроена.
Вот
на скользких коньках
веселая гонка несется
в тридцать градусов стужи.
И тут же
выходит пловчиха из летней воды
загорать
на кварцевом солнце.
А рядом — океанский аквариум.
(Дети его называют «Кваквариум».)
Там рыбы в юбочках балерин
проявляют рыбьи талантики.
И как избяные коньки
или гриф
отдельно от скрипки,
колебля тюль перепончатых грив,
стоя плывут морские коньки.
И лежат, как блины, плоскоспинные рыбки,
присланные из Атлантики.
И дальше —
большой зоосад.
Степные заросли для страусят,
рыжая гну
живет в своей собственной гриве.
Песчаная львица возится, рыская,
но как-то добрей и игривей.
Носится с кистью хвоста
барсук-брадобрей.
И тут полуптица живет австралийская
киви-киви,
держа дождевого червя
в полуклюве.
Подумайте — в де-ка-бре! —
устроено это
великолепное высокогорное лето.
За лесом стоят мастерские.
Внутри
они не похожи па мастерские.
И рябит из витрин
миллион непонятных для нас мелочей.
Темнота исчерчена
геометрией миллиметровых лучей,
и головастые черные вещи
поворачиваются и качаются,
как негативные снимки.
И работа вещей никогда не кончается.
То ли трудятся тут невидимки,
или люди оставили
копии глаз,
копии рук,
чтобы сами доставили
глубокие копи
и уголь и газ?
И пока за столами звучит
у рабочих неозабоченных
новогодний рассказ,
выполняют машины
заочно
и точно
человечий заказ.
Просто здесь для будущих нас
лист за листом
печатаются календари.
Каждый день — толстый том,
полный сведений.
Каждый месяц — Энциклопедия,
где описаны все Январи
финских, волжских и прочих сражений;
все Сентябри
удивительных освобождений
западных, южных, полярных,
тропических и заокеанских
Белоруссии и Украин;
все Октябри
созидательных революций
и всех молодых Конституций
советские Декабри —
золотыми словами поэтов
напечатали календари.
Гости к елке подходят:
— Дари.
В руки веток,
в серебряный иней —
жертвуй зеленой богине.
Шар о шар
зазвеневшее «динь»!..
Ледоколы свободно идут между льдин,
отражается в линзах
звезд позолота.
Всюду день земных именин.
Вот товарищ знакомый один
подвесил на ель
модель
своего звездолета.
Видите ли —
каучуковое чудо
летит на урановом двигателе!
Другой подарил пузатую ампулу
с каплей
последней, вчера побежденной
болезни.
Кончено
с криками, с кашлями, с корчами.
Шарик стеклянный
широк —
где, бессильный разбрызгать простуду,
чертиком вертится стрептококк.
А вот —
отяжелили плодами посуду.
Из зимнего сада принес садовод
свои небылицы-гибриды:
арбуз зебролицый, —
крыжовник небритый,
ягодояблоко, финикофигу,
душистопушистую малиноклубнику…
А некий
товарищ принес новую книгу
«Поэму Поэм»
о XX
героическом веке.
Стих мой!
Как бы тебе дорасти
до такой озаренности слов
неожиданности и новизны?
О, души ремесло!
Как тебя донести
до такой откровенности и прямизны?
Как слова довести?
до звучаний «Поэмы Поэм»?
В ней поэт
наконец
«Развязался с рифмой
и по строчке
вбежал
в удивительную жизнь»,
как мечтал его предок
(Маяковский).
Хоть строка —
покажись!
Он раскрыл молодой коммунизм пятилеток,
воскресил наши мысли живые,
облик вставших впервые
по эту
сторону
человечьей истории.
В ней поэту
удалось заглянуть
в Душу душ Народа народов.
Новый Век
он считает с Октябрьского года,
с первого возгласа
большевика
на железной трибуне броневика.
Да,
«Поэма Поэм» —
это больше венка, —
на века!
Один человек ничего не подвесил.
И, невесел,
сидит безутешно в столовой.
Он —
человек, осужденный за грубое слово
на неделю
безделья.
Жестокая кара!
По суровой традиции
судьи решают
и за проступок лишают
права трудиться
от суток
до месяца.
Вот образец:
понимаете муку
Фидия,
если отнят резец
и к паросскому мрамору
прикасать запрещается руку?
Или ноты, перо и рояль
отнять у Шопена?
Или сердцу стучать запретить?
Или птице — любимое пенье?
Без труда
страшно жить.
И неделя штрафного безделия
человеку — как прежде Бастилия.
А на праздник пустили,
простили,
но просили прийти без изделия,
Елка елок горит,
и на ней —
Шар шаров.
Дом домов,
Книга книг!
Все,
какие в семействе профессии —
принесли, подарили, подвесили
на чудесную Выставку выставок —
Песню песней и Вышивку вышивок.
Винт винтов,
Плод плодов,
Ленту лент,
Брюкву брюкв,
Букву букв,
Булку булок —
провозвестнице будущих лет.
Линзу линз,
Вазу ваз,
снеговую Вершину вершин,
скоростную Машину машин,
Склянку склянок с Духами духов,
Лист листов со Стихами стихов…
Елка елок цветет,
окруженная тесной Семьею семей
и Любовью любовей, —
Сыновей сыновей, Дочерей дочерей,
И живой на рогатке поет Соловей —
Птица птиц
общей Родины родин.
Ровно 11.
Начинается
новогоднее дальневидение.
Посветлела ночная стена,
стала выпуклой,
будто выпекла
светобуквы и звуки гулкие.
И по знаку какому-то
в комнату
вставились другие комнаты.
Понимаете?
Плывут столы
за столами, оттуда видят
этот стол,
из стены высовываются,
чокаются и здороваются
из прозрачной стены,
за ними — еще вырисовываются…
И за лесом
у дома около —
всплыло облако над Окой,
и окна прожекторное око
посмотрело далеко-далеко
и увидело:
около Сены
также излучаются стены.
И с огромным лучом
у Ориноко
встретилось оконное
окское
око.
И из Белостока
тянулся чокаться
с окским товарищем
бокал белостоковца.
За океан
лучи доползали.
(«Это — Нью-Елка!» —
дети сказали.)
Гости — вокруг стола.
Глазами — к хозяину.
Замерли.
Дед-звездочет (голова не стара)
рассказывает,
время развязывает,
годы раскладывает,
глазами орлиными годы разглядывает,
и по гостиной проносится вихрь
давних
тридцатых
и сороковых.
Дед
посмотрел на часы:
на циферблате ночном
половина двенадцатого.
— Внуки!
Бокалы в руки!
Начнем.
Первый тост за Двадцатый,
за наши бои и осады,
за простого штыка граненую сталь!
Наполняйте
граненый хрусталь.
Теперь
никто не нуждается в термине, —
«жизнь»
у нас называется
жизнью,
«время»
у нас называется
временем.
А то, что оно
давно —
коммунизм,
это само собой разумеется,
это имеется.
Почему же влажнеют глаза,
как от гари на дымном пожарище?
Товарищи!
Вспомним окопное «За!..» —
крик атак,
восклицанье бойцов,
бежавших на танк.
Это
«За
коммунизм!»
в сорок давнем году
обучало ребят,
добывало руду,
приводило к присяге,
учило труду
и в солдатском ряду
багровело на фланге.
Боевое,
огромное,
громкое
«За коммунизм!» —
чтобы наши глаза
не слезились от горя,
не слепли в чаду мастерских,
не выцветали от газа,
не опухали от голода,
чтобы вовеки
ни глаза
не было болью исколото.
В годах
сороковых и пятидесятых
были не все чудеса,
что на елке сегодня висят.
Полстолетья и больше назад
мы смотрели на вещи
другие —
защитные, серые.
Мы гордились изделиями
тяжелой металлургии
и артиллерии.
И тогда б я повесил на ель
не планету,
а вещь вороненую эту.
Незнакома?
Не знаете, что?
Нет, не флейта.
Она не поет.
Это просто ручной пулемет.
Тот, с которым я шел по дороге
в дни тревоги,
за кустом устанавливал на треноге.
Если были стихи —
мы любили
не трельные хоры лесные,
а скорострельные и скоростные.
Я повесил на ель бы
наши мишени,
пробитые в стрельбы.
Я украсил бы ветки
пробами сталей
не шведских,
а чисто советских
для важных деталей —
для ствола, для замка, для бойка.
И тетрадки ребят
оружейных училищ,
ставших впервые
к жужжанью станка.
Я украсил бы ветки
сумками военных врачей
с их ланцетами, шилами, пилами,
что над нами,
под гул орудийных ночей,
наклонялись и оперировали
в надетых на шубы халатах.
В тех палатах
лежал гигроскопический снег,
жег стерильный мороз
и ветер — отточенно-острый.
И спокойные сестры
зимних берез…
Я принес бы —
верните на фронт! —
раненых просьбы.
Я б на елку принес
комсомольский билет
бойца наших пасмурных лет,
его гимнастерку и лыжи.
А в билете записка.
Взгляните поближе,
прочтите, не скомкав:
«Если буду убит — записку мою
прошу сохранить для потомков
как письмо
от отдавшего Жизнь
за вас
человека.
И прочтите за час
до Нового Века…»
Не уроните ни буквы,
ни слова не скомкайте,
смотрите:
явилось само,
вас нашло в этой комнате
фронтовое письмо
комсомольца.
К вам дошло —
не хранимое сейфом,
не прикрытое музейным стеклом.
Шло оно,
недоступное тленью и порче
и пытке любой
из билета в билет,
из сердца в сердце,
из почерка в почерк,
из боя в бой.
За перевалы шестидесяти
льдинами выросших лет
посмотрите и выясните!
чей это след?
Он, как будто от ржавчины, рыж…
Рельсы лыж
все длинней и видней…
Вот
широкая лапами ель
снег развесила, как полотно,
и платком из снежинок закрылась по брови
А под ней —
человек и пятно
на сугробе.
Снег на шапку нарос.
Руку ломит мороз.
Щеки жжет от ветра.
Он ждет ответа.
Может, это будущий тот,
кто, как колокол, бьющейся грудью
упадет
на стреляющий дот —
к коммунизму дойти
нам мешающему орудью
рот
закрыть?
Может, будущий тот,
освещенный тончайшей полоской
рассвета,
полстолетия ждет
от людей коммунизма ответа?
В лучах,
новогоднего света,
на дедову речь
внук подымает бокал выше плеч:
— От имени всех
людей Двадцать первого века…
Далекий товарищ,
раненый друг,
разведчик лыжного батальона,
Чувствуешь?
Я —
это ты,
твоими друзьями продленный
до полного мира,
до крайней мечты,
до века,
где счастьем,
как снегом,
засыпаны все рубежи.
Я жив — это значит:
ты жив.
Я сделал мотор —
это значит:
тобою он начат.
Прошу, передай остальным:
их жизни останутся,
их руки дотянутся
к нам.
Им солнце достанется.
И мы —
в обновленные дни
прошедшие дальше,
прожившие дольше, —
они.
Коммуна
любимых не забывает.
И вот как бывает,
как чудится молодым и седым:
когда на бесчисленной сессии
в пятидесятитысячном зале Советов сидим,
чувствуется: в каком-то ряду —
у всех на виду —
депутат Маяковский
мандат подымает в две тысячи первом году.
Ощущаются в зале
и Горький, и Свердлов, и Фрунзе, и Киров,
и все,
кто свои бесконечные жизни
с коммунизмом связали.
Имена Пионеров
планета запомнила.
Будут школьники вечно в читальнях
страницы листать…
Имя
подняло зал
и заполнило:
«Ленин!»
Всем поколениям —
встать!
Там и ты
в сорок первом ряду,
безусый и русый,
прикрываешь рукой забинтованной
Золотую Звезду…
Дед
раскрыл комсомольский билет.
Сверху — два ордена.
Снизу — фото.
Кого-то напоминает лицо,
видели где-то.
И вдруг начинает лицо молодеть,
юнеют губы у Деда.
В квадратике сером
юность видна.
И лоб, как на снимке,
и улыбка — одна.
Лишь брови на карточке тоньше.
Да это же Дед!
Да он же!
Он должен дожить и дожил
до самых сияющих лет
и смотрит на свой комсомольский билет,
целует близких и ближних
седой-молодой
разведчик и лыжник
и открыватель Звезды Золотой!
О, как много людей!
Кто в тихой беседе,
кто в думе.
Будто никто и не умер за это столетье!
Улыбку в усы
запрятал Кашен.
На руку Тельмана
с рубцами фашистских наручников
ладонь положил
товарищ Хосе Диас.
Тут среди нас,
иероглиф листовки читая,
за столом Китая
задумчив товарищ Чжу-дэ [11],
Так везде!
Во всей земношарой Отчизне.
Живы!
С нами —
навек —
люди, отдавшие жизни
за коммунистический век!
И вновь,
заменив небылицы видений и снов,
стены
начали снова сиять газосветные,
и задвигались улицы разноцветные,
замелькало знакомое множество
лиц.
И люди увидели
наяву
Столицу столиц
Пяти Частей Нового Света —
просторную и удивительную
Москву.
Багряный лоскут Кремлевского знамени
выглажен ветром.
Рубиносозвездие светится.
Глазами они поднялись по лестницам,
и вплыл в миллионы
квартир новогодних
светлый Георгиевский зал.
Там тоже Елка
сегодня.
И каждая ветка держит в руке
игрушек веселый пакет
и смотрится в светлозеркальный паркет.
И вдруг
распахнулись все бывшие царские двери,
детям в открытую даль
весь в тонких фонтанах
раскрылся Версаль,
зеркальные двери с гербами
распахнул Букингемский дворец,
богдыхана — эмаль с черепицей —
чертог и индийские пагоды,
сложенные из множества ног.
И вбежали ребята —
тысячи тысяч русых, и черных,
и темно-каштановых,
в бантиках кос,
и тысячи тысяч вихрастых и стриженых,
и звездное небо мальчишеских глаз,
не видевших ни подвала, ни хижины! —
И их в хороводе стали вертеть
Аленушки,
Красавицы Спящие
и Сандрильонушки,
и в новых сапожках
сказочный Кот
под ручку с пушкинской белкой…
Ребята, сюда!
Шире круг!
Будем следить за тоненькой стрелкой,
за той,
золотой,
начинавшей и Сорок Первый
тем же звоном и той же чертой…
Осталась только одна
секунда
до Нового Века!
Так выпьем до дна
за них,
бессонных в трудах,
бессменных в походах,
за наших любимых и родных —
людей
Сорок Первого Года!
И в комнате из елки выросла
башня с часами,
ставшая сказкою,
выросла Спасская
башня с часами,
башня та самая.
Звон часов
Двадцать Первого Века!
Он —
отошедшего века наследье.
Дан
нераздельной семье человека
сын
героического столетья.
Еще не отзвонило двенадцать,
как весело дети в залу вошли:
— Деда, а деда!
Чего мы нашли!
Варя и я,
Олег и Володя!
Газету!
Вот эту!
От тридцать первого декабря
девятьсот сорокового года!
Вот посмотрите:
страница старинная,
и в ней
описана наша гостиная,
и то,
как подарками светится елка,
и то,
как радио Москву показывает,
и то,
как дедушка тут рассказывает,
и то,
как башня часы названивает,
в стихотворении
под названием:
«Ночь
под Новый
Век».