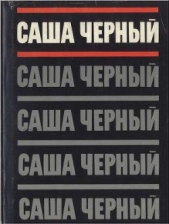Склад вазонов на дорожках,
На комодах, на столах,
На камине, на окошках,
На буфетах, на полах!
Три азартных канарейки
Третий час уже подряд
Выгнув тоненькие шейки,
Звонко стеклышки дробят.
За столом в таком же роде
Деликатный дамский хор:
О народе, о погоде,
О пюре из помидор…
Вспоминают о Париже,
Клонят головы к плечу.
Я придвинулся поближе,
Наслаждаюсь и молчу.
«Ах, pardon!.. Возьмите ножку!
Масло? Ростбиф? Камамбер?»
Набиваюсь понемножку,
Как пожарный кавалер.
Лес высоких аракарий,
В рамках — прадедов носы.
Словно старый антикварий,
Тихо шепчутся часы.
Самовар на курьих лапках,
Гиацинты в колпачках.
По стенам цветы на папках
Мирно дремлют на крючках.
Стекла сказочно синеют:
В мерзлых пальмах — искры льда.
Лампа-молния лютеет,
В печке красная руда.
Рай… Но входит Макс легавый.
Все иллюзии летят!
В рай собак, о рок неправый,
Не пускают, говорят…
<1910>Декабрь Сальмела
Ах! Милый Николай Васильич Гоголь!
Когда б сейчас из гроба встать ты мог,—
Любой прыщавый декадентский щеголь
Сказал бы: «Э, какой он, к черту, бог?
Знал быт, владел пером, страдал. Какая редкость!
А стиль, напевность, а прозрения печать,
А темно-звонких слов изысканная меткость?..
Нет, старичок… Ложитесь в гроб опять!»
Есть между нами, правда, и такие,
Что дерзко от тебя ведут свой тусклый род
И, лицемерно пред тобой согнувши выи,
Мечтают сладенько: «Придет и мой черед!»
Но от таких «своих», дешевых и развязных,
Удрал бы ты, как Подколесин, чрез окно…
Царят! Бог их прости, больных, пустых и грязных,
А нам они наскучили давно.
Пусть их шумят… Но где твоигерои?
Все живы ли, иль, небо прокоптив,
В углах медвежьих сгнили на покое
Под сенью благостной крестьянских тучных нив?
Живут… И как живут! Ты, встав сейчас из гроба,
Ни одного из них, наверно, б не узнал:
Павлуша Чичиков — сановная особа
И в интендантстве патриотом стал.
На мертвых душ портянки поставляет
(Живым они, пожалуй, ни к чему),
Манилов в Третьей Думе заседает
И в председатели был избран… по уму.
Петрушка сдуру сделался поэтом
И что-то мажет в «Золотом руне»,
Ноздрев пошел в охранное — и в этом
Нашел свое призвание вполне.
Поручик Пирогов с успехом служит в Ялте
И сам сапожников по праздникам сечет,
Чуб стал союзником и об еврейском гвалте
С большою эрудицией поет.
Жан Хлестаков работает в «России»,
Затем — в «Осведомительном бюро»,
Где чувствует себя совсем в родной стихии:
Разжился, раздобрел — вот борзое перо!..
Одни лишь черти, Вий да ведьмы, и русалки,
Попавши в плен к писателям modernes,
Зачахли, выдохлись и стали страшно жалки,
Истасканные блудом мелких скверн…
Ах, милый Николай Васильич Гоголь!
Как хорошо, что ты не можешь встать…
Но мы живем! Боюсь — не слишком много ль
Нам надо слышать, видеть и молчать?
И в праздник твой, в твой праздник благородный,
С глубокой горечью хочу тебе сказать:
— Ты был для нас источник многоводный,
И мы к тебе пришли теперь опять,—
Но «смех сквозь слезы» радостью усталой
Не зазвенит твоим струнам в ответ…
Увы, увы… Слез более не стало,
И смеха нет.
<1909>