Отпечатки затертых литер
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Отпечатки затертых литер, Мамочева Юлия-- . Жанр: Поэзия. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.
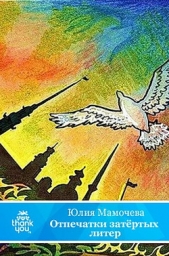
Название: Отпечатки затертых литер
Автор: Мамочева Юлия
Дата добавления: 15 январь 2020
Количество просмотров: 341
Отпечатки затертых литер читать книгу онлайн
Отпечатки затертых литер - читать бесплатно онлайн , автор Мамочева Юлия
Книга юной талантливой петербургской поэтессы знакомит читателей с ее стихотворениями и поэмами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перейти на страницу:
8
«Постой! Постой же, подойди ко мне…»
Во тьме внезапно под луною жёлтой
Мелькнул кусочек меди на ремне,
Покрытый тонким слоем позолоты.
Тот медальон. Тот самый, дорогой,
Что матери был отдан на храненье,
Сверкал, объятый женскою рукой,
Сверкал в руке, дрожащей от волненья.
«Возьми его… Возьми его себе!
И ты не плачь — не надо больше плакать…
Забудь скорей о вражеской пальбе,
Прошла война как мартовская слякоть!
А талисман — пусть он тебя хранит,
Все беды изгоняя в одночасье,
И привлекает, будто бы магнит,
К тебе одной твое, родное, счастье…»
В ответ чуть слышно застонала ель
И скрипнула любимая качель…
9
Светало. Озарились небеса
Почти прозрачным, невесомым светом…
И птичьи раздавались голоса,
И воздух пахнул предстоящим летом.
В саду царил неведанный покой…
Там на качелях женщина сидела,
И улыбалась, робкою рукой
Обняв девчонку спящую несмело.
Скамья качалась, двигалась едва,
Внимая ветра ласковым порывам;
И мыслями полнилась голова:
О будущем. Действительно счастливом.
Эпилог
Наша жизнь — что старые качели:
То к Земле несется с вышины,
То, на гребне жизненной волны, —
К радости, неведомой доселе…
То скрипит с ветрами в унисон,
То поёт о счастье безмятежном,
Океаном — шумным и безбрежным —
Разливаясь под напевный звон.
Вдаль однажды отойдут невзгоды,
Скрывшись за громадой пыльных лет, —
И взлетим мы, осязая свет,
И вдохнем шального кислорода!..
Наша жизнь — что легкая качель:
В ней беду сменяет ликованье,
Как весной, дыша благоуханьем,
Расцветает солнечный апрель
Вслед за мартом. И вскипает кровь
В чудный миг природы возрожденья…
Жизнь — качель. А ветра дуновеньем
Для нее становится любовь.
ВЕДЬМА
С рассвета на площадь стекается люд:
Проклятую ведьму сегодня сожгут!
Сухою соломой покрыт эшафот,
Заранее весел народ!
Мелькают чепцы и пестрят колпаки,
По слякоти скачут, теснясь, башмаки,
А вот и епископ дряхлеющих лет —
В роскошную рясу одет.
С ним целая свита святейших отцов
И судей — честнейшей души мудрецов!
Гудит в нетерпенье священная знать —
Пора бы уже начинать…
Зеваки под хлюпанье грубых колес
Пустили на площадь торжественный воз:
Телегу (да с клячею вместо коней)
И клетку глухую на ней.
Вся черная, будто копала золу,
Там ведьма валялась на грязном полу,
И в тряске совсем не срываясь едва,
Моталась ее голова.
Свистя, за повозкой гналась ребятня,
Кидалась камнями, колдунью кляня,
А рядом, как гордый чернеющий грач,
Вышагивал чинно палач.
И вот поравнялась повозка с толпой.
Чуть не был раздавлен бродяга слепой,
Шатавшийся праздно у ней на пути:
Да к счастью успели спасти.
Поодаль закованный, выкрикнул вор:
«Долой дьявольщину! В огонь! На костер!»
И люд поддержал златокрада того,
Недавно плевавший в него.
За волосы выволок ведьму палач
Под гиканье черни, под хохот и плач,
И бросил, как тряпку, в вонючую грязь,
Под маскою хрипло смеясь.
Ужасна злодейка поистине та:
Драниной прикрыта ее нагота.
Недавно касался испанский сапог
Босых искалеченных ног.
Пятнадцатилетняя девочка-яд:
Костлявые руки из робы торчат.
А грязные патлы, как сажа, черны —
Примета шайтанской вины.
«В страшнейших грехах обвиняешься ты!
Крещеная злом самого Сатаны!
Призналася давеча ведьма во всем,
Судимая честным судом…
Призналась: порой колдовала в ночи,
Украла четыре церковных свечи,
С неведомым духом беседы вела
И с кошкою черной жила.
От этих злодействий тебя до утра
Очистит священное пламя костра!
Могла б индульгенцию также купить
Да некогда злато копить…»
Колдунья, сполна натворившая зла,
Усилием воли лицо подняла.
И детские глянули небом глаза —
Невысохшая бирюза.
«Деяний своих от людей не таю,
Да только, епископ, я правду твою
Разрушу, ведь Дьявол, поверь, ни при
В магическом действе моем.
И впрямь, ворожила я лунной порой
Над милой моею болящей сестрой…
Лечила волшебным настоем из трав,
Быть может, законы поправ.
И свечи взяла, только вам не назло:
Чтоб в домике стало соседском светло!
А прежде ведь в Храме просила огня
Как ведьму прогнали меня!..
В том доме старуха одна умерла
Бездетно и голодно, трудно жила!
Кому ж, как не мне, было свечи принесть,
Молитву усопшей прочесть?..
Я кошку себе не могла не забрать:
Старушка любила ее, словно мать —
Родное дитя. Да к тому же одна
Погибла бы точно она…
Бесплотный же Дух, собеседник ночной
Есть Ангел-Хранитель с рождения мой!
И в Храме святом, подходя к алтарю,
Частенько я с ним говорю…»
Перейти на страницу:
Рекомендуем к прочтению


























