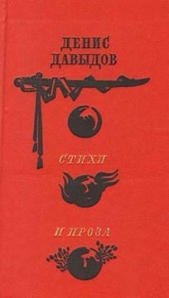Стихотворения. Поэмы. Проза

Стихотворения. Поэмы. Проза читать книгу онлайн
Яков Петрович Полонский (1819–1898) — замечательный лирик, обладающий в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал "чистым элементом поэзии". В его творчестве отразилась история всей русской классической поэзии XIX века: Полонский — младший современник Жуковского и старший современник Блока.
Яков Петрович Полонский — как бы живая история русской поэзии XIX века. Его творчество захватило своими краями всю классическую русскую поэзию: первые стихотворные опыты гимназиста Полонского заслужили одобрение Жуковского, и вместе с тем имя Полонского еще было живым поэтическим именем, когда начал писать Блок, для которого поэзия Полонского была «одним из основных литературных влияний». Среди поэтов конца века, с их духовным и стилевым разладом, Полонский занимает особое место — в его лирике воплотилось то лучшее, что дал поэзии XIX век: неразложимая цельность и глубина содержания, свобода и естественность выражения, благородство и прямодушие, твердая ясность идеала.
Хотя Полонский писал и поэмы, и рассказы, и воспоминания (особенно замечательны — о Тургеневе, с их подкупающим сочетанием простодушия и проницательности), все же он, конечно, прежде всего — лирический поэт, обладающий в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал «чистым элементом поэзии». Пожалуй, ни о ком другом этого нельзя сказать с такой определенностью, как о Полонском: никакая другая жизненная роль «не подходила» ему, кроме роли поэта.
В каком-то смысле Полонский был центром, точкой пересечения множества литературных, общественных, личных отношений своего времени. Место это принадлежит ему не по размаху и мощи поэтического гения, не по резкости и оригинальности общественной позиции, но по особой, одному Полонскому в такой мере свойственной поэтической отзывчивости, живого и как бы неизбежного отклика на все совершающееся вокруг него. Органическое, «стихийно певческое» начало в сочетании с постоянной готовностью души к отклику и создают в первую очередь своеобразие поэтической личности Полонского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перед проездом через Рязань наследника-цесаревича Александра Николаевича (почившего императора Александра II) директор Семенов позвал меня и поручил мне написать приветственные стихи, так чтобы один куплет можно было проговорить изустно, а другой пропеть на голос: "Боже, Царя храни!"
Я охотно взялся за это дело и порядочно над этими стихами помучился.
В то время у нас завелись свои певчие; учить нас приходил какой-то регент (не соборный ли дьякон?). Уроки происходили в пустой, без всякой мебели комнате старой, нами покинутой гимназии. Я тоже хотел учиться петь. Но голос мой, очевидно, был никуда не годен; меня допускали к ученью только по моей неотступной просьбе. Скоро наш гимназический хор стал появляться на клиросе нашей приходской церкви "Николы Дворянского". Каждое воскресенье мы пели за обедней. Между нами лучшим басом был единственный писарь, состоящий при нашей гимназической канцелярии. Лучшим дискантом -- друг мой, Александр Красницкий. У него был удивительный голос. Когда он пел, дамы и девицы, стоявшие в церкви, переглядывались -- дескать, откуда такое чудо! Я гордился им настолько же, насколько и любил его. (Под именем Красинского я упомянул о нем в рассказе "Груня" и отчасти в рассказе "Дом в деревне").
Этому-то хору и поручено было петь стихи мои, то есть те два куплета, которые были написаны на голос "Боже, Царя храни!".
Когда приехал наследник-цесаревич, ни чтения стихов, ни пения не состоялось. Должно быть, на это не последовало разрешения. Посещая наш класс, Его Высочество оставался недолго -- прослушал только чтение по-французски одного из моих товарищей Ржевского. Французский учитель был бледен от волнения и потом долго восторгался красотой цесаревича.
Вечером того же дня дворянство давало бал августейшему гостю, бал в Рюминой роще, на даче у Н. Г. Рюмина. Я собрался идти в эту рощу смотреть иллюминацию, глядеть в окна и слушать роговую музыку; но только что я вышел за ворота, встретил сторожа, который сообщил мне приказание немедленно явиться к директору. Меня это озадачило. Зачем, думаю,я понадобился?!
Директор в то время жил уже не на дворе старой гимназии, а рядом с ней, через улицу, в большом деревянном доме.
Когда я вошел в переднюю, мне указали на лестницу в коридоре и сказали: "Ступайте наверх".
Наверху, то есть на антресолях, было, как кажется, две комнаты. В первой из них, пустой, я остановился. В другой слышались голоса -- там были, очевидно, гости и стоял дым от трубок. Кто-то доложил о моем приходе. И вот, вижу я, выходит ко мне высокий, полный, несколько сутулый, мне совершенно незнакомый господин... Этот господин был Василий Андреевич Жуковский. Он сказал мне, что стихи мои ему очень понравились, что наследник благодарит меня и жалует меня золотыми часами.
На другой день отъезда наследника-цесаревича в актовой зале новой гимназии был молебен в присутствии всех учителей и всех классов, потом прочтена была какая-то бумага с упоминанием моей фамилии и затем был мне вручен футляр с небольшими золотыми часами, покрытыми эмалированными цветами, по большей части незабудками.
Чтобы вполне воссоздать со всеми подробностями это не ожиданное мною событие, нужно немало бумаги и времени. Скажу только, что высочайшая награда обратила на меня внимание всей Рязани. Я был недоволен своими стихами, а рязанские барыни распускали слух, что это не я сам их сочинил, а мои тетеньки (!). Вскоре после отъезда наследника я был приглашен на обед к рязанскому предводителю дворянства, а затем на обед к председателю казенной палаты Княжевичу, брату бывшего министра финансов. От архиепископа Евгения прислана была мне печатная проповедь с надписью: "Пииту Полонскому. А. Евгений".
Перейдя в 7-й класс, я был сделан старшиной, то есть надзирателем за всеми учениками гимназии, и, несмотря на это, я не помню со стороны моих товарищей ни малейшего проявления вражды или зависти. Как старшина, я, конечно, не был похож на великого человека, каким казался мне тот старшина, которого застал я при моем поступлении в гимназию. Говорят, скромность паче гордости; если это справедливо, то, не хвастаясь, могу сказать, что сходя в нижний этаж, где помещались 1-й и 2-й классы и по крайней мере сотня мальчиков, я постоянно был окружаем улыбающимися шалунами и водворял тишину после звонка, до прихода учителя, вовсе не строгостью, а тем, что меня любили. При этом (ничего не скрывая) считаю нужным сообщить, что, как старшина, я иногда злоупотреблял в свою пользу своим правом удаляться из своего класса во время рекреации; когда я плохо знал урок и боялся, что меня вызовут и спросят, я медлил возвращаться в свой класс: я знал, что если по списку вызовут меня, а меня не окажется, то вызовут кого-нибудь другого. Я это вспоминаю только потому, что меня за это мучила совесть. Никто тогда и не подозревал моей хитрости, так же как и теперь никто не толкал меня на это признание. Но, почем я знаю, может, оно и пригодится какому-нибудь педагогу в доказательство, как было безнравственно и нерационально назначать в надзиратели одного из учеников гимназии. Я привожу только факты, но с педагогами спорить не буду.
Вот еще один факт, которого до сих пор я забыть не могу -- до такой степени он тогда взволновал меня. Раз меня призывает Ляликов, инспектор, и говорит: "Вы знаете, где живет отец Слаутинского?" -- "Близ церкви Бориса и Глеба в собственном доме".-- "Ступайте к отцу и скажите ему, что сын его исключен из гимназии".
Хотя Слаутинский и был ниже классом, хоть я и мало знал его, но такое поручение сильно меня огорошило. Я должен был исполнить роль бумаги или письменного извещения самого неприятного содержания. Тяжело мне было поехать в дом для того, чтобы поразить старого отца. У меня дрожали колена, когда толстый, рыхлый старик, с водянистыми выпуклыми глазами, седой и лысый, в халате вышел ко мне в переднюю, не подозревая, зачем я пришел к нему. Заикаясь, я передал ему, что мне было велено. Несчастный отец весь задрожал и стал плакаться на судьбу свою.
Степан Тимофеевич Слаутинский, впоследствии замечательно даровитый повествователь, был исключен из гимназии не за лень, не за шалость, а за свои амуры. Говорят, что на него жаловался отец одной девушки, и, вероятно, недаром: я не раз видел Слаутинского по вечерам, стоящего на тротуаре и разговаривающего с какою-то девушкой в окно. Не успели его исключить, как он уже увез ее и на ней женился.
Впоследствии с Слаутинским мы были приятели, почти друзья. У меня немало его писем. Всю свою жизнь до старости он оставался человеком страстно увлекающимся и женщинами, и картами, и поэзией, и даже службой. В то же время он был и практическим дельцом, и горячим патриотом, и правдивым повествователем. Его воспоминания, помещенные в "Историческом Вестнике", по моему мнению, могут быть поставлены на ряду с "Семейною хроникой" С. Аксакова, но, как кажется, публика, никем не руководимая, на эти записки, полные драматизма и бытовых картин старого крепостного времени, не обратила никакого внимания.
Хорошо ли поступил со мной Ляликов, давая такое поручение -- пусть об этом судят гг. педагоги. Конечно, у инспектора была своя (тогдашняя) точка зрения, да, видно, и тогдашнюю канцелярию, состоящую при гимназии, не заставляли много писать. Очевидно, что для Ляликова я был то же, что теперешняя бумага за номером, под казенною печатью; а что происходило в душе моей -- этого он, конечно, и подозревать не мог.
Случалось, что, по болезни, у нас в классе не было учителя. Тогда приходил к нам Ляликов, приносил с собой какой-нибудь русский журнал того времени, приказывал читать ту статью, которую он отметил, и уходил. Когда он уходил, кто-нибудь из нас читал статью вслух. Мы слушали, и не знаю, как другие, про себя же скажу, я мало понимал из того, что читалось: статьи ли, выбираемые Ляликовым, были написаны тяжелым и неудобопонятным языком, или я был еще недостаточно развит для того, чтобы понимать их. Едва ли, впрочем, и другие понимали, так как лучшие из учеников нашего класса иногда приходили ко мне просить растолковать им урок из логики Бахмана. Значит, я, плохой ученик, мог легче понимать то, что ставило их в тупик, и это льстило моему самолюбию гораздо больше, чем приглашения на обеды к рязанским сановникам.