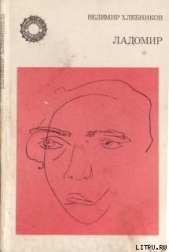Забыв вселенную, живем мы,
Воюя с властью вещества,
Полны охальства и истомы,
В могучих латах озорства.
Утратил вожжи над собой
Я в этот год, забывши, кто я.
Но поздно, поздно бить отбой,
Пускай прикроют песни Ноя.
Носатый бес отворит двери,
И вас засыпет град вопросов.
Отвечу я: по крайней мере,
Я буду с ней обутым в осень.
Устало я уж в кресло сел,
А бес расспросом беспокоил,
Права быть глупостью присвоил
И тем порядком надоел.
Я со стены письма Филонова
Смотрю, как конь усталый, до конца.
И много муки в письме у оного,
В глазах у конского лица.
Свирепый конь белком желтеет,
И мрак залитый им густеет,
С нечеловеческою мукой
На полотне тяжелом, грубом
Согбенный будущей наукой
Дает привет тяжелый губам.
Сижу я, обувью ворча,
Часы приема у врача.
Там травоядная столовая
Для посетителей соловая.
Моих медведей берлога близко
К подолу снежных облаков.
Взлетел наверх; висит записка:
«О, доро… мой… сию… готов».
О, трепет пальцев, беглый стук
И треск, как будто в печке пламенный,
И лоск знакомых [красных] рук,
И ступки стан изящно-каменный.
Тростник иль мыслящая печь,
И страсть ты тоже печка только.
Она, чтоб ляхов гнев навлечь,
Она немного тоже полька.
Я <между подданных> устал, у повелителя сосну,
В повиновении лишь нега.
Так ищет верную сосну
В полете птица до ночлега.
Струею рабской я плесну,
Чтоб был потоптан грязью снег.
Но что ж! С чела моего снята хмара
Тем долгим месяцем угара.
Чуть-чуть свою утратил совесть,
Зато есть чем заполнить повесть.
Мыча, как слон, али чирикая,
Здравствуй, здравствуй, я великое.
Из руд возможного упорной киркою
Я книгу прошлого запачкал, чиркая,
Хотя здесь, может, дед Платон
Нашел бы целым свой закон.
Не поединком беспокоясь.
Своею шашкою кичась,
Заткнув и Пушкина за пояс,
Вошел я к вам сюда сейчас.
В тот месяц был сапог дыряв,
И мне грозило наводнение,
И я, надежду потеряв,
Шептал: дружок, не озорничай,
На службе будь людских приличий!
Я город опишу таким: [он], как заноза,
Вошел в то место, где Спиноза
Когда-то жил, как в сумке двуутробки.
На бой! За мной, созвучия! Не будьте робки!
Итак, подвала опишем точно обстановку.
Воображенье, брось винтовку!
У птиц умирающих,
Навеки пристреленных,
Взял в долг тот художник суровые глаза,
От пыли щеткой мягкой вытер,
И их повез с собою в Питер.
Подруга, ступка, стрекоза,
Лепешки мяты и сырок,
И чайник вместо самовара,
Небрежных к утвари урок,
В углу пивных сосудов пара.
Ту ночь провел я до утра.
У этих двух, зачем – не знаю,
Была беседа их пестра.
Валежник ищет так костра.
Присохла в нем душа сквозная.
Но между ищущих огня
Ищите, люди, и меня.
Звонок. Кивок. А, это вы? Поклон рассерженный.
А, это вы? Привет воздержанный.
Я был в немилости тогда,
Того достигнув без труда.
И вот вошел отменно сух,
Я был тогда отважней мух.
Священной жертвою полену
Придвинусь к теплому колену.
Ты снова бросил на весы
Уж лысый меч своей красы.
Идут толпой седые мысли.
И я застыл весь серый в кресле.
Ответьте мне: зачем я сер?
Бывал ли до меня пример.
Белели волосы, как лен,
Глаза же острые чернели.
Ужель перед зеркалом трудно
Ресниц подчеркнуть серебро?
Как в море горящее судно
Возникло прямое перо.
Вот образцы моих острот:
Я близоруких спелый рот.
Теперь на Каспии, тогда же
Чужой невольник на продаже.
Уста и мышцы расхвалив,
Стояли около друзья,
Как мать богатыря.
Порою с хохотом слюнявым
Из лести ткали мне ковер.
Пока же личиком смазливым
Звала езиня у озер.
И, как ночные мотыльки,
Просили некоторые встречи,
Но крыльев смяты лепестки!
И ясны прежние предтечи.
Да, в этот дом, высокий и тяжелый,
Входил я часто невеселый.
На копьях сил умри, зима,
Была тех дней моя мечта.
Но все же я скажу без шуток,
Зачем же истину скрывать,
Одетый, трое целых суток,
Я не покидывал кровать.
В бессильной злобе только вскакивая,
Недели ревности оплакивая.
А между тем, мертвец зеленый
Стоял в углу красноречиво.
Его родитель воспаленный,
Узрев певца, изрек: и пива.
Как умно шамкали враги,
Они жевали сапоги,
Его приятели-покойники
Взирали умно из холстов.
Как полотенце рукомойника
Из кружев ободы перстов.
Весенний хлыст развесист ивы.
Слеза? Серебряный пушок.
И встречи первые бурливы,
Еще рассудок-пастушок.
Видали: хищная ворона
Порой несет в когтях ягненка?
Вой пастуховский, бивень звона.
А рядом бьется с клячей конка.
Да на чумной растут заразе
Молочно-сизые цветы,
Вбирая в хобот воли грязи
По длани [рока я и ты].
Горячий жар слов подкупал
Ее несвязанные речи.
Но мака я не узнавал
Сквозь лихорадку (ум овечий).
А между тем, его зерном
Питался часто перед сном.
Как в невод бились зерна мака
В концы ручейные очей.
Она сотрудник гайдамака
И верит в силу «я» лучей.
. . . . . . . . . . . . . . .
И сил могучих полна и эта
Лысокурая моя.
Частушка ей сейчас пропета.
Тебе свою сальную шкуру
Тигрица-столица несет,
А ей белокурый понуро
В созвездиях место дает.
Неситесь песни о скитальцах,
Стучите кости на узких пальцах,
И громко ревите слова моряков
Сквозь бурю, за волны до тех облаков.
Перевернув зарницы выси
И отделившись легче мыси,
Не знаю, мертв я иль живой,
Сейчас поверю я, что вы
Прилипните к потолку главой
Одной работой своей воли.
Гребя веслом, везет проказа
Ушкуй задумчивых пьянчуг.
За денщикова бровью глаза
Проходит дым, огонь и юг.
И дым закутает нас дымкой,
Как чайка синяя носясь,
А муж томительной ужимкой
Посмотрит, веком вбок косясь.
В какой серый мрачный гроб
Замкнуты сизой клетки здания.
А в песне море и озноб
И трепет ночью мироздания,
И клекот белого орлана,
И чаек хохот или плач.
О, водопадный хрип горлана!
Душа летела, как Кивач.
Славное море, священный Байкал
Тот выход песни замыкал.