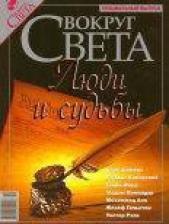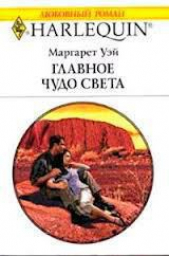Сколько в этом строю она выстояла!
Сколько с ним прошагала и выстрадала!
А теперь у ней ноги болят,
и врачи ей ходить не велят.
Ей бинты специальные куплены.
У ней тромбами вены закупорены.
Кровь от этого в венах бунтует.
Мама ноги бинтами бинтует.
Километрами тянется бинт.
Он как стежечка тонкая-тонкая.
Словно перечень давних обид.
Словно очередь долгая-долгая.
На рассвете мерещится маме:
вьется очередь между домами.
Вьется очередь между домами,
проходными проходит дворами,
где трава, и сараи с дровами,
и таблички висят с номерами.
Она движется еле заметно,
как в кино лишь бывает – замедленно.
Мимо паперти божьего храма.
Мимо свалки железного хлама.
Мимо каменных строек страны.
По равнинам великой войны.
А за дымом кумач развевается.
А за домом фугас разрывается.
После каждого взрыва фугасного
сердце мамы моей разрывается.
Ее ливень осколков сечет.
Кровь по кофточке белой течет.
Я по снегу на помощь бегу
но никак добежать не могу.
Ох и снег! На снегу стоит мельница.
На больших жерновах время мелется.
Там муку на весах мельник взвешивает,
будто он на весах время взвешивает.
Все движенья его очень медленны.
Держит гирю он в белой руке.
Он над строгими чашами медными —
словно памятник белой муке.
Он своей справедливой рукой
наполняет авоськи мукой.
Мама держит авоську у сердца.
А мука-то сквозь дырочки сеется.
Тает, тает мука, будто снег.
Снег летает. Мука или снег?
Высыпается он, высыпается.
Лишь авоська в руке, холодна.
За окошком, как шаньга, – луна.
Рано мама моя просыпается.
Очень зябнет она, когда спит.
Белый бинт на ногах ее сбит.
Он как стежечка тонкая-тонкая.
Он как очередь долгая-долгая.
Так и жизнь представляется маме:
вьется очередь между домами.