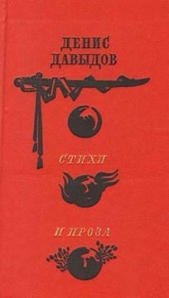Стихотворения. Поэмы. Проза

Стихотворения. Поэмы. Проза читать книгу онлайн
Яков Петрович Полонский (1819–1898) — замечательный лирик, обладающий в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал "чистым элементом поэзии". В его творчестве отразилась история всей русской классической поэзии XIX века: Полонский — младший современник Жуковского и старший современник Блока.
Яков Петрович Полонский — как бы живая история русской поэзии XIX века. Его творчество захватило своими краями всю классическую русскую поэзию: первые стихотворные опыты гимназиста Полонского заслужили одобрение Жуковского, и вместе с тем имя Полонского еще было живым поэтическим именем, когда начал писать Блок, для которого поэзия Полонского была «одним из основных литературных влияний». Среди поэтов конца века, с их духовным и стилевым разладом, Полонский занимает особое место — в его лирике воплотилось то лучшее, что дал поэзии XIX век: неразложимая цельность и глубина содержания, свобода и естественность выражения, благородство и прямодушие, твердая ясность идеала.
Хотя Полонский писал и поэмы, и рассказы, и воспоминания (особенно замечательны — о Тургеневе, с их подкупающим сочетанием простодушия и проницательности), все же он, конечно, прежде всего — лирический поэт, обладающий в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал «чистым элементом поэзии». Пожалуй, ни о ком другом этого нельзя сказать с такой определенностью, как о Полонском: никакая другая жизненная роль «не подходила» ему, кроме роли поэта.
В каком-то смысле Полонский был центром, точкой пересечения множества литературных, общественных, личных отношений своего времени. Место это принадлежит ему не по размаху и мощи поэтического гения, не по резкости и оригинальности общественной позиции, но по особой, одному Полонскому в такой мере свойственной поэтической отзывчивости, живого и как бы неизбежного отклика на все совершающееся вокруг него. Органическое, «стихийно певческое» начало в сочетании с постоянной готовностью души к отклику и создают в первую очередь своеобразие поэтической личности Полонского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не помню, с какого именно года моего младенчества,-- кажется незадолго до того, как я стал учиться грамоте,-- иногда в полусне я ощущал нечто такое, чего уже никогда потом в жизни моей не повторялось. Ощущение это невыразимо -- это был страх и в то же время высочайшее наслаждение. Мне казалось, что какая-то сила связывает меня в какой-то студенистый узел и начинает меня вытягивать; тянет и тянет,-- я становлюсь все тоньше и тоньше, боюсь, что вот-вот еще немного, и я оборвусь. Но при этом страхе и замирании сердца я тотчас же просыпался, покрытый потом, и не понимал, что такое со мной происходило. Было ли это болезненным или нормальным ощущением? Оно было не часто, но постоянно одно и то же,-- и, если не ошибаюсь, позднее семи лет я не ощущал ничего подобного. Конечно, интересно знать, было ли с другими в детстве нечто похожее на то, что я сейчас рассказал, и рассказал впервые, ибо в то время я, ребенок, никому не мог передать того, чего я сам понять не мог.
V
Однажды мать моя очень была удивлена, когда я сказал ей, что помню белую карету, в которой возили меня к бабушке. Теперь я совершенно забыл о ней, но не забыл другой кареты -- зеленой, четырехместной или скорее шестиместной -- так она была объемиста. Запрягали ее цугом в четыре лошади, с форейтором, лазали в нее по трем откинутым, складным ступенькам; ступеньки эти, звякая, опускал и поднимал лакей в потертой ливрее и в большой треугольной шляпе,--лакей, который соскакивал с высоких запяток для того, чтобы отворить или захлопнуть каретную дверцу. Внутри карета была обита желтым сафьяном, кисти были шелковые, серые. Каждое воскресенье и каждый праздник карета эта появлялась у нас на дворе, около десяти часов утра и ожидала нас. Если была зима -- меня закутывали, натягивали на ноги белые, лохматые, вязанные из пуху и шерсти, сапоги до колен, и вместе с другими возили меня к бабушке, у которой был собственный дом на углу Дворянской улицы. Когда я не хотел так тепло одеваться, мне говорили, что мои ножные пальцы были уже отморожены. Я этого не помню, помню только, что они иногда очень пухли, очень зудели и что их мазали каким-то жиром.
VI
Бабушка моя была урожденная Умская, одна из побочных дочерей графа Разумовского (какого, не знаю). Звали ее Александрой Богдановной (это не значит, что отец ее был Богдан). Одиннадцати или двенадцати лет вышла она замуж за Якова Осиповича Кафтырева, родного племянника генерал-аншефа Петра Олица, лифляндского помещика и рыцаря, в юности участвовавшего в чесменском бою и силача необыкновенного. О его силе рассказывали мне вещи невероятные: рассказывали, будто бы этот Олиц мало того, что мог через кровлю сарая перебрасывать двухпудовые гири, мог, втыкая свои пальцы в дула солдатских ружей и вытянув руки, поднимать их и на отвесе горизонтально держать и даже качать их. Рассказывали, что никогда он не бывал болен и умер только потому, что, упавши с лошади, о камень разбил свою грудь. Деда своего я уже в живых не застал, но видел портрет его, в мундире с красными отворотами и с напудренной косой, с черным, должно быть, тафтяным, подвязанным под нее мешочком. Слышал я, что в молодости он был у дяди своего адъютантом и играл на флейте (складную флейту его я видел в старой кладовой). Умер же он в чине действительного статского советника, состоя на службе советником или председателем какой-то рязанской палаты.
Дед мой и жена его были очень богаты, но разорил их процесс с племянником Федором Михайловичем Тургеневым, по поводу села Хамбушева, принадлежавшего брату моей бабушки. Братец этот занял у сестры 100000 с тем, чтобы завещать ей все свое состояние. Состояние это оттягал Тургенев, подсунувши Умскому другое, им самим составленное завещание, предварительно напоив его и подкупив его любовницу. Процесс этот длился около двадцати лет и кончился тем, что на сенатском докладе этого дела Александр I сделал надпись: "Кафтырев прав по совести, а Тургенев -- по закону". Закон перетянул, и благосостояние Кафтыревых было значительно поколеблено. Род же Кафтыревых происходит от татарского мирзы, когда-то владетельного хана Кафы,-- теперешней Феодосии. Вероятно, хан этот взят был в плен еще при царе Борисе, обжился в Москве, принял православие и записан в разрядной дворянской книге под фамилией Кафтырева.
У бабушки моей было восемнадцать человек детей, но большая часть из них умерла от оспы; не без следов на лице ускользнули от оспы и остались в живых: сыновья -- Димитрий и Александр Яковлевичи и пять дочерей: Вера, Анна, Наталья, Евлампия и Ольга. Из них две первых не были замужем -- Наталья была замужем за отцом моим, Петром Григорьевичем Полонским, Евлампия -- за Т. П. Плюсковым, Ольга за Панкратьевым. У Натальи Яковлевны Полонской я был старшим сыном; через год родился брат мой Дмитрий, через два года брат Григорий, через три года Александр. Затем был еще Николай (умерший в младенчестве), затем Петр, Павел и дочь Александра. Кажется, довольно и этого, чтоб в кратких словах очертить мое происхождение и упомянуть о моих братьях, которые позднее будут играть не малую роль в моих воспоминаниях.
VII
Когда всех нас привозили в дом бабушки, я шел с ней здороваться в ее спальную, которой она уже не покидала ни днем ни ночью. Широкая двухспальная кровать старухи стояла в нише и была занавешена белыми занавесками, обшитыми бахромой,-- и когда она не спала, обе занавески были откинуты, образуя над головой ее род палатки. Весь день, перед столиком, сидела она на кровати, опустив ноги на скамеечку. На ее столике помню я то старый часослов, то хлопушку от мух, то несколько блюдечек с мелкими камешками, по большей части находимыми в утином желудке. Все эти камешки бабушка моя любила сортировать по их величине и цвету, и каждый сорт всыпала в особенный, ею надписываемый, мешочек. Для чего она это делала? Мечтала ли она, что из этих камешков можно будет сделать мозаику или облепить стенки небольшого баульчика? Не знаю. Иногда для меня, ее любимого внука, на этом столике появлялась китайская штучка, которую я называл "чашечка в чашечку",-- и действительно, вся штука состояла в том, что в одну чашку вкладывалась другая, в другую третья и так далее. Это была неподдельная и очень старинная китайская вещица. Таких китайских вещей у бабушки были целые сундуки. Они достались ей тоже от какого-то брата, состоявшего при посольстве в Китае. (Вообще при Екатерине II все Умские были в большом почете, все были богаты и на виду.) Иногда же совершенно другой сюрприз готовила нам эта бабушка: она нанизывала на нитки в разные цвета крашеный горох и эти длинные бусы дарила нам.
Однажды, получив такой подарок, я ушел в залу и стал кружиться; нитка с горохом вертелась кругом меня колесом, а я был точно ось пущенной в ход вертушки. Мне очень понравилось такое быстрое на одном месте кружение; меня стали останавливать -- я не слушался; но бабушка меня не останавливала, она сказала только, что от такого кружения у меня мозги вытекут. Я испугался за свои мозги и присмирел, даже руками не раз щупал голову -- нет ли трещины и целы ли мозги! Целый день меня тревожили слова бабушки: я им верил; ибо в те счастливые годы я всему верил, что бы ни сказали мне.
Деревянный дом моей бабушки (до ее кончины) в наше время показался бы чем-то вроде антика или чем-то вроде любопытной редкости (если бы такие дома можно было хранить за стеклом в музеях со всеми их обывателями или хоть с чучелами из этих обывателей). Не успела умереть бабушка, как уже все в этом доме изменилось, и дом потерял уже первобытный характер свой; и теперь (я видел его в 1881 году, в мой приезд в Рязань) он был снаружи почти такой же, но уже с пристройкой сеней, выходящих на улицу. Сада же, который увидал я с бывшего моста (теперь насыпанного вала, близ гимназии, по Воскресенской улице), я совсем не узнал, в таком он запущении. Там, где были высокие старые липы и куртины с яблонями, грушами и вишневыми деревьями, стояла какая-то изба посреди гряд с капустой; где были цветники и непролазные кусты малины -- там на веревках было белье развешано. Так все меняется, и, к сожалению, не всегда к лучшему.