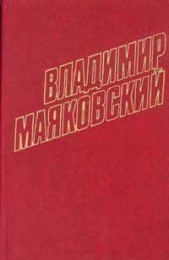Это, я вам доложу, — зрелище. Дома́. Дома необыкновенных величин и красот.
Улицы циркулем выведены. Электричество ожерельями выложило булыжник. Диадемищами горит в театральных лбах. Горящим адрес-календарем пропечатывают ночь рекламы и вывески. Из каждой трубы — домовьей, пароходной, фабричной — дым. Работа. Это Москва — 940–950 года во всем своем великолепии.
Глобус — и то хорошо. Рельефная карта — еще лучше. А здесь живая география. Какой-нибудь Терек — жилкой трепещет в дарьяльском виске. Волга игрушечная переливается фольгой. То розовым, то голубым акварелит небо хрусталик Араратика.
Даже размечтался — не выдержал.
Воздух
голосом прошлого
ветрится ба́сов…
Кажется,
над сечью облачных гульб
в усах лучей
головища Тарасов
Бульб.
Еще развинчиваюсь,
и уже
бежит глаз
за русские рубежи.
Мелькнули
валяющиеся от войны дробилки:
Латвии,
Литвы
и т. п. политические опилки.
Гущей тел искалеченных, по копям скрученным,
тяжко,
хмуро,
придавленная версальскими печатями сургучными,
Германия отрабатывается на дне Рура.
На большой Европейской дороге,
разбитую челюсть
Версальским договором перевязав,
зубами,
нож зажавшими, щерясь,
стоит француз-зуав *.
Швейцария.
Закована в горный панцырь.
Италия…
Сапожком на втором планце…
И уже в тумане:
Испания…
Испанцы…
А потом океан — и никаких испанцев.
Заворачиваю шею в полоборотца.
За плечом,
ледниками ляская —
бронзовая Индия.
Встает бороться.
Лучи натачивает о горы Гималайские.
Поворачиваюсь круто.
Смотрю очумело.
На горизонте Япония,
Австралия,
Англия…
Ну, это уже пошла мелочь.
Я человек ужасно любознательный. С детства.
Пользуюсь случаем —
полюсы
полез осмотреть получше.
Наклоняюсь настолько низко,
что нос
мороз
выдергивает редиской.
В белом,
снегами светящемся мире
Куки *,
Пири *.
Отвоевывают за шажками шажок, —
в пуп земле
наугад
воткнуть флажок.
Смотрю презрительно,
чуть не носом тыкаясь в ледовитые пятна —
я вот
полюсы
дюжинами б мог
открывать и закрывать обратно.
Растираю льдышки обмороженных щек.
Разгибаюсь.
Завинчиваюсь еще.
Мира половина —
кругленькая такая —
подо мной,
океанами с полушария стекая.
Издали
совершенно вид апельсиний;
только тот желтый,
а этот синий.
Раза два повернул голову полным кругом. Кажется, наиболее интересные вещи осмотрены.
Ну-с,
теперь перегнусь.
Пожалуйста!
Нате!
Соединенные
штат на штате.
Надо мной Вашингтоны,
Нью-Йорки.
В дыме.
В гаме.
Надо мной океан.
Лежит
и не может пролиться.
И сидят,
и ходят,
и все вверх ногами.
Вверх ногами даже самые высокопоставленные лица.
Наглядевшись американских дивѐс,
как хороший подъемный мост,
снова выпрямляюсь во весь
рост.
Тут уже начинаются дела так называемые небесные.
Звезды огромнеют,
потому — ближе.
Туманна земля.
Только шумами дальними ухо лижет,
голоса в единое шумливо смеля.
Тишь.
И лишь
просторы,
мирам открытые странствовать.
Подо мной,
надо мной
и насквозь светящее реянье.
Вот уж действительно
что называется — пространство!
Хоть руками щупай в 22 измерения,
Нет краев пространству,
времени конца нет.
Так рисуют футуристы едущее или идущее:
неизвестно,
что́ вещь,
что́ след,
сразу видишь вещь из прошедшего в грядущее.
Ничего не режут времени ножи.
Планеты сшибутся,
и видишь —
разом
разворачивается новая жизнь
грядущих планет туманом-газом.
Выпустят из авиашколы летчика.
Долго ль по небу гоняет его?
И то
через год
у кареглазого молодчика
глаза
начинают просвечивать синевой.
Мое пребывание небом не считано,
и я
от зорь его,
от ветра,
от зноя
окрасился весь небесно-защитно —
тело лазоревосинесквозное.
Я так натянул мою материю,
что ветром
свободно
насквозь свистело, —
и я
титанисто
боролся с потерею
привычного
нашего
плотного тела.
Казалось:
миг —
и постройки масса
рухнет с ног
со всех двух.
Но я
оковался мыслей каркасом.
Выметаллизировал дух.
Нервная система?
Черта лешего!
Я так разгимнастировал ее,
что по субботам,
вымыв,
в просушку развешивал
на этой самой системе белье.
Мысль —
вещественней, чем ножка рояльная.
Вынешь мысль из под черепа кровельки,
и мысль лежит на ладони,
абсолютно реальная,
конструкцией из светящейся проволоки.
Штопором развинчивается напрягшееся ухо.
Могу сверлить им
или
на бутыль нацелиться слухом
и ухом откупоривать бутыли.
Тихо до жути.
Хоть ухо выколи.
Но уши слушали.
Уши привыкли.
Сперва не разбирал и разницу нот.
(Это всего-то отвинтившись версты на́ три!)
Разве выделишь,
если кто кого ругнет
особенно громко по общеизвестной матери.
А теперь
не то что мухин полет различают уши —
слышу
биенье пульса на каждой лапке мушьей.
Да что муха,
пустяк муха.
Слышу
каким-то телескопическим ухом:
мажорно
мира жернов
басит.
Выворачивается из своей оси́.
Уже за час различаю —
небо в приливе.
Наворачивается облачный валун на валун им.
Это месяц, значит, звезды вывел
и сам
через час
пройдет новолунием.
Каждая небесная сила
по-своему голосила.
Раз!
Раз! —
это близко,
совсем близко
выворачивается Марс.
Пачками колец
Сатурн
расшуршался в балетной суете.
Вымахивает за туром тур он
свое мировое фуэтэ *.
По эллипсисам,
по параболам,
по кругам
засвистывают на невероятные лады.
Солнце-дирижер,
прибрав их к рукам,
шипит —
шипенье обливаемой сковороды.
А по небесному стеклу,
будто с чудовищного пера,
скрип
пронизывает оркестр весь.
Это,
выворачивая чудовищнейшую спираль,
солнечная система свистит в Геркулес *.
Настоящая какофония!
Но вот
на этом фоне я
жесткие,
как пуговки,
стал нащупывать какие-то буковки.
Воздух слышу, —
расходятся волны его,
груз фраз на спину взвалив.
Перекидываются словомолниево
Москва
и Гудзонов залив.
Москва.
«Всем! Всем! Всем!
Да здравствует коммунистическая партия!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Эй!»
Чикаго.
«Всем! Всем! Всем!
Джимми Долларс предлагает партию
откормленнейших свиней!»
Ловлю долетающее сюда извне.
В окружающее вросся.
Долетит —
и я начинаю звенеть и звенеть
антеннами гла́за,
глотки,
носа.