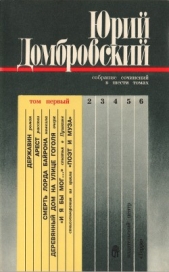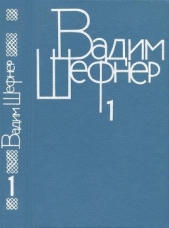У самого дома взъерошенным клёном,
Мой день, ты ещё надо мною шумишь,
И ты, моя улица, хламом зелёным
Завалена вся от подъездов до крыш.
Земля подо мною крутилась недаром:
Нет-нет, да и свалит куда-нибудь вкось,
Но хоть ускользала вертящимся шаром,
А всё ж уцепиться за край удалось.
И около красных заречных закатов,
И рвов, и мостов, и холмов, и церквей,
Меня в огороженный дворик упрятав,
Бушуют косматые толпы ветвей.
Кирпичные тучи из труб отработав,
По целому небу костры разбросав,
За длинным оврагом литейных заводов
Грохочут и ночью и днём корпуса.
Так что же — вот это моя усыпальница,
Гробница моя и мой вечный покой?
Вот этой землёй мое тело завалится
И станет когда-нибудь этой землёй?
А там некрологом не очень подробным
Почтят на последнем газетном листке
И сделают надпись на камне надгробном
Совсем на каком-то другом языке.
Мы пушкинским словом бездонно-хрустальным
Ещё и сегодня с тобою живём.
Так что ж тебе делать со звуком печальным?
Так что ж тебе в имени дальнем моём?
Зачем же опять я над сеткой железной
Тебе посылаю мой теннисный мяч,
Мой стих отрешённый, мой крик бесполезный,
Подхваченный ветром моих неудач?
Так что же мне делать с моею печалью,
Чтоб стать ей навеки печалью твоей?
Куда я с моими стихами причалю?
Скажи мне, куда я плыву без огней?
А может быть — ветер попутный со мною,
А может быть — я оседлаю волну,
А может быть, я, как высокой волною —
Высоким стихом до тебя доплесну!..
Мне из Москвы писали
(Участвовать пригласив),
О том, что хранится в ЦГАЛИ
Наш семейный архив.
Задуматься есть причина,
Что там ни говори.
Воображаю, как чинно
Выглядит всё внутри.
За стёклами в морозилке
Хранится родитель мой,
Положен с пулей в затылке.
Дата: тридцать восьмой.
А рядом с отцом на полке
Заполнены все места —
Сплетни и кривотолки,
Доносы и клевета.
В отделе того же года
Хранится газетный крик.
Вырезка — «Враг народа»
Болтается, как ярлык.
Тут же и комнатёнка
С полуслепым окном,
Куда меня, как котёнка,
Вышвырнул управдом.
Наверно, среди архива
Им тоже место нашлось —
Знакомым, что торопливо
При встрече глядели вкось.
Тут даже оскал разъярённый
Пса, угрожавшего мне,
Которого вдоль перрона
Охранник вел на ремне,
Когда в товарных вагонах,
Растянутых на версту,
Гуртом везли заключенных
Куда-нибудь на Воркуту.
И думали вы, что сунусь
С воспоминаньями я
В архив, где хранится юность
Растоптанная моя?
Вверху хрусталём и хромом
В антракте зажгли звезду.
Раскланиваюсь со знакомым
В четырнадцатом ряду.
А сцена пуста. Не там ли,
Вперёд наклонясь чуть-чуть,
Просил Офелию Гамлет
В молитве его помянуть?
Я страх почувствовал некий,
Что Гамлет просил о том
Уже в семнадцатом веке.
Попросит в двадцать шестом.
И перед этою тайной,
Что столько веков живёт,
Я — только совсем случайный
Незначащий эпизод,
И что искусство мудрее
Во многом жизни самой,
И что костюм устареет
Не гамлетовский, а мой.
Что здесь, у самого края
Сцены, живущей века,
Зрителя я играю,
И роль моя коротка.
Магазин игрушек.
Сколько погремушек!
Прямо из окошек —
Выставка матрёшек.
Вон дрыгун, вон прыгун,
На верёвочке вертун!
Рядом с этим дрыгунцом —
Пограничник с ружьецом.
Вон пожарник в каске,
Куколка в коляске.
Крашеные кубики
Для дошкольной публики.
А у самых у дверей —
Деревянный воробей:
Заведёшь ключом пичужку —
Чик-чирик да скок-поскок.
Продавец продаст игрушку,
Запакует в коробок.
Жизнь сегодня подытожа,
Сделал вывод я один:
Жизнь совсем была похожа
На вот этот магазин.
Был дрыгун я, был прыгун,
Был я по миру скакун,
А за мной, за дрыгунцом —
Пограничник с ружьецом!
От него я тягу дал,
Удирать я был удал!
И среди путей-дорожек
Моего житья-бытья
На хорошеньких матрёшек
Как засматривался я!
Жизнь горела, жизнь пылала,
Жизнь меня кидала в жар,
И пожарников немало
Заливало мой пожар!
Несмотря на эти встряски,
Я нисколько не тужил, —
Я дитя возил в коляске,
Дом из кубиков сложил.
И теперь я — ей-же-ей —
Деревянный воробей!
Есть какой-то голосок:
Завожусь я на часок!
Мой последний вечер — вот он!
Мрак вокруг меня глубок.
Очень скоро буду продан:
Запакуют в коробок!