Стихотворения и поэмы
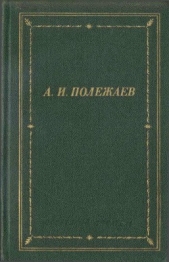
Стихотворения и поэмы читать книгу онлайн
По охвату стихотворного наследия видного поэта пушкинской эпохи А. И. Полежаева (1804–1838) настоящее издание приближается к полному собр. стихотворений — за пределами книги осталось несколько малозначительных произведений. Материал в издании распределен по четырем рубрикам (всюду с хронологической последовательностью в расположении произведений): 1) Стихотворения. 2) Поэмы и повести в стихах. 3) Переводы. 4) Приложение. Имеется раздел «Варианты»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Белинский исходил из верного положения о том, что недостатки таланта Полежаева — продолжение его достоинств. Правда, эти достоинства он в общем свел к «необыкновенной силе чувства», тогда как разговор о слабых сторонах творчества поэта занял гораздо большее место, и это притом, что Полежаев был провозглашен в статье одним из самых замечательных поэтов своего времени. Причина тому — нормативный характер эстетических критериев Белинского. Так, например, он отрицательно оценивал «неопределенность созерцания» Полежаева, хотя она далеко не всегда губительна для поэзии, не говоря уже о том, что «неопределенность созерцания» — законное свойство поэтического творчества, между прочим, пленяющее и таинственной неразгаданностью своих картин, образов и часто передающееся методом художественного абстрагирования, столь характерным для романтического искусства и для Полежаева, в частности. В конце концов, без «неопределенности созерцания» не было бы «Песни погибающего пловца», «Провидения», «Цыганки», которыми так восхищался Белинский, не было бы и возвышенного мятежного героя полежаевской поэзии, чей трагизм в немалой степени усилен ощущением потерянности в огромном — без берегов и устоев — коварно изменчивом и оборотническом мире.
Понимание своего предназначения, места в жизни и своих возможностей часто служит цементирующей основой личности, определяющей ее характер, линию поведения и обеспечивающей известное равновесие ее в действительности. Абстрактность и разорванность эмоционально-аффектированного мышления Полежаева, неразрешимая конфликтность его сознания, отразившиеся в его творчестве, привели к довольно интересному результату и позволили поэту сказать часть истины о человеческой жизни, до него никем не высказанной.
Незыблемым устоем поэтической культуры XIX века была вера в единство личности — не того плоского единства, которое сложилось при классицизме и которое Пушкин проиллюстрировал известной фразой («У Мольера Скупой скуп — и только»), а того, которое предполагало многомерность литературных героев со всеми их разнообразными качествами. Поэзия Полежаева показывает иное: личность может быть нетождественной себе, ей присущи многоликость, текучесть, диффузность. Это открытие Полежаева отчасти сближает его с Лермонтовым, который пришел к нему своим путем, путем раскрытия «диалектики души». Поэзия XIX века в сущности прошла мимо этого феномена. Зато в прозе (прежде всего у Достоевского, он нашел наиболее широкое и углубленное отражение.
Далее, Полежаев показал, что личность, попавшая в многолюдный коллектив или даже толпу, может растерять свою индивидуальность или, выражаясь словами Жюля Ромена, «человек в толпе как бы заново рождается, причем неизвестно даже, представляет ли это существо отдельную личность». [40]
И еще показал Полежаев одну важную истину, в полной мере ставшую азбучной в послеоктябрьской поэзии: судьба отдельной личности не может быть познана в отрыве от жизнедеятельности масс.
Не кто иной, как Белинский заметил, что стихи Полежаева представляют собой поэтическую исповедь автора. Впрочем, сам критик не придал особого значения этому наблюдению. Между тем построение творчества в виде духовной биографии автора следует поставить в заслугу поэту, имевшему своим предшественником такого выдающегося мастера романтической поэзии, как Жуковский. Но главное в лирической исповеди Жуковского — ее интимное содержание — глубоко запрятано в подтекст его стихов и как бы растворено в наполняющей их эмоциональной атмосфере. Лирическая исповедь Полежаева с ее чрезвычайно активным авторским «я» достигла достаточно полного развития и ввиду своей откровенности и значительного разнообразия переживаний, что позволяет видеть в нем ближайшего предшественника Лермонтова. [41]
Ни в 1830-е, ни в 1840-е годы еще не было ясно, что за формой лирической исповеди большое будущее, в чем последующий опыт развития поэзии, особенно в XX столетии, убеждает с неоспоримой очевидностью. Будущее это было подготовлено глубочайшим интересом культурной общественности страны к индивидуальному миру духовно обогащенной личности, не подвластной процессам обезличения и стандартизации человека, и стремлением такой личности выразить свое внутреннее «я» средствами поэтического искусства. В этом, разумеется, не было никакого ущерба для поэзии, ибо в индивидуальности большого поэта всегда открывается индивидуальность его эпохи.
Влечение к духовной самореализации в ряде случаев — в силу избыточной субъективности авторского сознания и заботы о нескованном его претворении — не могло не противостоять привившимся традициям и нормам поэзии, а порой эта потребность вела к их ломке, даже к выходу за пределы искусства — вплоть до отречения от красоты формы и художественной логики образов.
Пример Полежаева, одного из основателей исповеднической поэзии, в этом отношении более чем показателен. Оценивая его наследие в исторической перспективе, мы вслед за Белинским не можем не признать, что творчество поэта отмечено резкими перепадами в уровне художественного мастерства, что лучшее из написанного им окружено вещами далеко не безупречными и просто слабыми. Потому Белинский настаивал на том, чтобы стихи Полежаева издавались с очень строгим отбором, с отсечением «балласта», дабы не повредить его писательской репутации. Действительно, мало найдется поэтов XIX века, лучшая часть творчества которых имела бы столь распространенную периферию. Тем не менее эта периферия составляет тот необходимый контекст, без которого не могут быть правильно поняты ни шедевры Полежаева, ни мир (точнее: миры) его творчества.
Стихотворное наследие Полежаева со всей своей разросшейся периферией — в высшей степени любопытное историко-литературное явление, обнажающее важнейшие социально-психологические стимулы и корни исповедальной поэзии. Суть поэзии Полежаева — самоутверждение личности автора в борьбе со всевозможными видами ее вытеснения из жизни — как внешними (социальное принуждение, обезличение, насильственная изоляция, угроза смертельного наказания), так и внутренними (аскетическая подавленность, ослабленное чувство бытия, одиночество, ожидание близкой смерти и полного уничтожения своего «я», неспособность привязаться к какому-либо положительному объекту или цели и т. д.). Поэт или давал отпор враждебным ему силам отчуждения, или освобождался от своих внутренних недугов тем, что выражал их в стихах, или спасался от мучительных состояний, погружаясь в поток «живой жизни» — в быт, причем погружался иной раз до такой степени элементарно, что принижал некоторые пробы своего пера до уровня явлений быта («Новодевичий монастырь», «Рассказ Кузьмы», отчасти «Сашка», «Нечто о двух братьях, князьях Львовых» и другие). Вместе с тем поэзия была для Полежаева и средством воссоединения разрозненных осколков своего «я», кладовой памяти, хранившей следы его прикосновения к жизни. Такие стихи зачастую превращались в прямой разговор с современниками и потомками как бы в расчете на их сочувствие, помощь и прощение своих «грехов».
Таким образом, в наследии Полежаева с предельной ясностью просматривается то, что называется «человеческим документом», причем «документом» в самом емком смысле этого слова. Не удивительно, что в наследии этом мы обнаружим больше человеческой исповеди, чем способно вместить в себя искусство поэзии.
Сам Полежаев не заблуждался насчет характера своего дарования: он знал, что может быть настоящим поэтом, но может писать и «гадкие стихи» («К друзьям»), от которых не собирался отказываться, знал, что ему не избавиться от искушения писать «для младенческой забавы», а «не для славы» и т. п. Еще он считал, что в творчестве важнее всего быть самим собой, то есть не приносить в жертву художественности неприкрашенную правду своей внутренней и внешней жизни. Искренность он даже противопоставлял изяществу формы и отделке стиха. Обращаясь к Лозовскому («Другу моему А. П. Л<озовскому>»), он выражал надежду, что тот оценит «сердце выше слов» — сердце не художника, а человека Александра Полежаева.


























