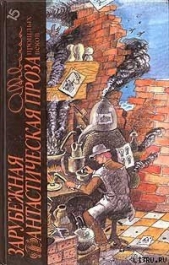Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии.

Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии. читать книгу онлайн
Пишу и сам себе не верю. Неужели сбылось? Неужели правда мне оказана честь вывести и представить вам, читатель, этого бретера и гуляку, друга моей юности, дравшегося в Варфоломеевскую ночь на стороне избиваемых гугенотов, еретика и атеиста, осужденного по 58-й с несколькими пунктами, гасконца, потому что им был д'Артаньян, и друга Генриха Наваррца, потому что мы все читали «Королеву Марго», великого и никому не известного зека Гийома дю Вентре?
Сорок лет назад я впервые запомнил его строки. Мне было тогда восемь лет, и он, похожий на другого моего кумира, Сирано де Бержерака, участвовал в наших мальчишеских ристалищах. «Свой фетр снимая грациозно, на землю плащ спускаю я» соседствовало в моем рыцарском лексиконе со строками: «Пустить вам кварту крови квартой шпаги поклялся тот, кто вами оскорблен». Но, в отличие от Сирано, который жил только в моем воображении да в старой серовато-чернильной книжке Ростана, Гийом (это я уже тогда знал) существовал в реальности — в городе Абан за Уральским хребтом. У меня было даже доказательство его присутствия на земле — часы, подаренные мне, часы, на золотом корпусе которых стояли мои инициалы АКС, сплетенные в причудливый вензель.
Нет, нет, читатель, это не бред воспаленного воображения—это наша жизнь, умеющая сплести из нитей чистой, неприкрашенной правды ковер-самолет, или шапку-невидимку, или судьбу Гийома дю Вентре.
Извольте, оставим романтическую часть этой истории, возьмем ее вполне реальные очертания, которые можно подтвердить документами из личного дела, досье, переписки или метрикой, ратентом, справкой о реабилитации.
Жил-был человек по фамилии Харон, хромировал бабки и преподавал во ВГИКе, дирижировал оркестром и валил двуручной пилой кедры, изобретал многоканальную систему звукозаписи и карусельный станок по непрерывной разливке чугуна, присутствовал на премьере «Броненосца „Потемкин"» в Берлине и при убийстве царевича Димитрия в Угличе, бил ломом лунки под взрывчатку и учил сына произносить букву «р» непременно в слове «синхрофазотрон». Был поэтом и педантом, вольнодумцем и ортодоксом, болел всеми болезнями своего времени и имел к ним пожизненный иммунитет. Был похож на птицу и вообще, и в смысле «мы вольные птицы; пора, брат, пора». И умер в благополучной Москве от лагерного туберкулезного удушья, перехватившего вздох легких.
Вам уже стало понятнее, читатель? Значит, мы на верном пути.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ГЛАВА 5
Вот, собственно, и все.
К поэтической биографии относится, вероятно, еще и обзор «первых публикаций» — прижизненных или хотя бы посмертных. Но тут мне, как вы догадываетесь, рассказать нечего. Самое первое «издание», состоявшее из сорока сонетов и издевательского комментария, было выполнено Юркиной каллиграфией на кальке, размножено светокопировальным способом и сброшюровано в пяти экземплярах. Мы разослали эти экземпляры своим далеким — Ну, скажем так: друзьям. А те уж понесли их — с самыми благими, впрочем, намерениями — весьма солидным ценителям и специалистам.
Реакцию ныне здравствующих экспертов мне приводить не хочется — разве что за одним-единственным исключением, и право на это исключение дает мне хотя бы временная дистанция. Дело в том, что этот отзыв писался совсем недавно, когда Юрки давно уже в живых не было, и не на первые сорок, а на нынешние сто сонетов. Поэтому все упреки адресованы мне, я их с благодарностью воспринял — и не стесняюсь обнародовать.
Реакция же ушедших в мир иной была, как ни странно, более чем лестной. Получая через наших непосредственных корреспондентов все новые и все более восторженные отзывы, мы с Юркой вскоре поняли, чему обязаны столь теплым, даже горячим, приемом: для всех наших читателей на воле мы ведь были прежде всего «репрессированными», арестантиками во глубине сибирских руд и т. д.— как же было скупиться на похвалу, на участие, на моральную поддержку! Может, от этой поддержки жизненно важные вопросы зависят — быть или не быть несчастным «переводчикам», продолжать ли свое ужасное, должно быть, существование — или уж совсем отчаяться и покончить все разом?!
Ничем иным, кроме подобной доброты (разумеется — чрезвычайно ценной, и не только для нас с Юркой, но и более широко, так сказать, для верной характеристики морального облика многострадальной российской «прослойки», сколько б ее ни мордовали…), невозможно объяснить безоговорочную апологию творчества дю Вентре такими мировыми величинами, как, например, М. Лозинский в Ленинграде и М. Морозов в Москве. Немного позже, в сорок седьмом, мне посчастливилось лично — в доме все той же Женюры — услышать из уст ныне покойного Владимира Луговского форменный панегирик не только поэту, но и его переводчикам. Владимир Александрович утверждал, что это надо немедленно печатать — причем немедленно в том прямом смысле, что все порывался вскочить и куда-то бежать, не выпуская из рук нашей книжицы, и мы все с трудом его удерживали. Был уже первый час ночи, но мы не так уж много и выпили, опьянение было совсем иного рода…
Единственным нелицеприятно трезвым рецензентом нашим — на самой первой стадии, то есть еще в начале сорок шестого года,— оказался Николай Альфредович Адуев. Он прислал нам в лагерь подробное письмо — четыре страницы убористой машинописи! — с весьма суровыми поправками, замечаниями и конкретными советами. Начал он с того, что мы-де напрасно тешим себя уверенностью, будто обладаем единственным уцелевшим томиком дю Вентре в оригинале. Еще будучи студентом Сорбонны, утверждал Адуев, он откопал у старичка-букиниста на Монмартре такой же точно томик, явно того же издания… И вот он не понимает, как мы, вроде бы достаточно тонко чувствующие язык и манеру дю Вентре, можем допускать такие-то и такие-то явные нелепицы, безвкусицы, оплошности и т. п., и т. д. Следовал преподробнейший список — и все в безжалостно-едкой, остроумной и даже зарифмованной форме.
Трудно переоценить значение этого письма в нашей работе…
Надо ли говорить, что в сорок седьмом, едва попали мы в Москву, одним из первых наших визитов был визит к Адуеву. Мы ждали этой встречи, как праздника,— и не ошиблись. По нашей просьбе Адуев, уже тяжело больной, оставил у себя в машинописи всю сотню сонетов — «на расправу». По нашей же просьбе он выставил каждому сонету (вернее — нам с Юркой за каждый сонет) оценку по пятибалльной системе и свои замечания на полях. Этот экземпляр с адуевскими оценками и ремарками «лег в основу настоящего издания», как говорят в более солидных случаях. Во всяком случае, он лег в ящик моего письменного стола — как самая дорогая реликвия.
Приведу лишь несколько примеров «редактуры на полях», как мне представляется,— очень характерных для поэтического и человеческого облика Николая Альфредовича.
Рифма «увенчан — женщин» обведена многозначительной и сердитой чертой. Приписка: «Очень изъезжено. Даже у меня есть!»
В строке «Хотя б ты, старый черт, писал почаще» обращение подчеркнуто волнистой линией. Внизу странички — приписка: «Слабо. Этот залихватский тон по отношению к другу-сопернику звучит и нарочито, и весьма не по-французски. «Старый черт» отнюдь не эквивалентно vieux diable-ю».
…В «Химерах» первой редакции второй катрен описывал, как «друг друга рвут зубами обезумевшие кони». Адуев поставил рядом снежинку-сноску, а внизу написал: «„Еще рыдают раненые кони» (Стийенский). „Хохочет, обезумев, конь» (Сельвинский). И вы, Вентре, в ту же конюшню?»
…Седьмая строка в «Четыре слова» первоначально выглядела так: «За них я шел в Бастилью и в изгнанье». Адуев: «А лучше так: в Бастилию, в изгнанье. На что ж даны нам знаки препинанья?»
…Поправка в строчке «Генрих Гиз — дерьмо» — совсем крохотная: многоточие. Но вот как аргументирует Николай Альфредович: «Точнее бы mot на рифму дерьмо. Но поскольку г-но, сойдет и давно. Только… поставьте в связи с этим перед «дерьмо» многоточие».
…«Не француз, не XVI век, а ученик Игоря Северянина!» — это по поводу «Ты встречи ждешь, как в первый раз, волнуясь, Мгновенья, как перчатки, теребя» и т. д. Бесчисленные «как» обведены Адуевым кружочками, а сбоку дан совет: «Сонет творя, не «как»-айте зря!»
В общем — всем бы поэтам такого редактора!.. Тем более что на похвалу Адуев был не менее щедр — и не менее изобретателен.
Так или иначе, но пока мы с Юркой, сами того не ведая, стали в глазах наших современников этакими новоявленными Орестом и Пиладом с креном во французскую поэзию шестнадцатого века — ну, как же: Варфоломеевская резня и все такое прочее… Как сказано, мы с ним на сей счет не обольщались и навсегда сохранили по отношению к нашему дю Вентре добрую улыбку, и даже счастливую и лишенную хоть капли горечи,— но все же только улыбку: он был ведь для нас средством, а не целью. Будь он целью, мы за него едва ли когда-нибудь взялись бы: не га профессия, между нами будь сказано. Наша жизнь после сорок седьмого пошла разными дорогами, хотя и на вполне параллельных курсах. Пути наши (но не мы сами!) даже встречались: один только успевал покинуть очередную пересылку, как туда вваливался другой. Входя в предбанник, я иной раз знал, что из раздевалки этой бани, на той стороне, сейчас выгоняют партию «повторников», в которой находится Юрка. Оба мы попали в Красноярский край и довольно скоро отыскали друг друга — подумаешь, четыреста километров, тоже мне расстояние!.. Но переписка наша никак не налаживалась: о чем писать? Здоровье, настроение, род занятий — кому это интересно?!