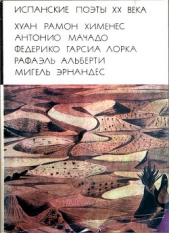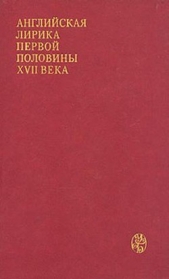Все кругом голубело, был праздник свеченья:
были в зелени души и в золоте — дали,
потому что впервые свое воплощенье
все цвета в этих ясных глазах обретали.
Два их солнца вставали — и таяли тени.
Камни были как зеркало. Воды блистали.
И лежала земля, ожидая цветенья,
в незакатных лучах, что весну возрождали.
Затмеваются. Слышишь? Я счастлив. Не надо
ничего — лишь тонуть в их бездонной пучине
и не видеть прощального их догоранья.
Заливало сиянием этого взгляда,
но затмились глаза. Только сумерки ныне
отливают землистым огнем умиранья.
Улыбаться с веселой печалью оливы,
ожидать, и надеяться, и ожидать,
улыбаться, улыбкою дни награждать.
Веселясь и грустя, оттого что мы живы.
Оттого мои дни так трудны и счастливы,
что в улыбке и ясность и мрака печать.
Ты раскрыла уста, чтобы бурей дышать,
я же — летнего ветра вдыхаю порывы.
Та улыбка взмывает над бездной, растет,
словно бездна, уже побежденная в крыльях.
И вздымает полет, пламенея вдали.
И светлеет, не меркнет, твердеет, как лед.
О любовь, ты всего достигнешь в. усильях!
Ты с улыбкой ушла от небес и земли.
Летает влюбленный только. Но кто полюбил настолько,
чтоб воплотиться в птицу и распрямиться в лёте?
В ненависти погрязло все до последней дольки,
жаждущей без оглядки взмыть опереньем плоти.
Любить… Но кто же способен? Летать… Но кто же способен?
Я в силах ворваться в небо, голодное от бескрылости,
но внизу любовь задыхается, ибо в ненависти и злобе
остается одно отчаянье и крыло не способно вырасти.
Существо, от желаний светлое, мечется, мечется, мечется —
хочет вырваться, чтобы свобода стала гнездом над мерзостью,
хочет забыть наручники, вросшие в человечество.
Существу не хватило перьев: оно утыкано дерзостью.
Иногда оно возносилось так высоко над сущим,
что небо сверкало на коже, а птицы — внизу и рядом.
Душа, однажды смешавшаяся с жаворонком поющим
и потом упавшая градом в ад, пропитанный смрадом.
Ты знаешь теперь наверно, что жизни других — это плиты:
живьем замуруют! Остроги — проглотят, как тварь, потроша!
Вперед, через груды и толпы тех, кто с решетками слиты.
Даже из клетки, где сыты, рвитесь, и кровь и душа.
Смешное жалкое платье, моя оболочка бренная.
Жрущая и вдыхающая огонь, пустая труба.
Изъеденный меч, затасканный от вечного употребления.
Тело, в тюрьме которого разворачивается судьба.
Ты не взлетишь. Ты не можешь летать, никчемное тело,
блуждающее в галереях, где воздух меня сковал.
Льнущее к небу тело, которому дно надоело,
ты не взлетишь. Все так же мрачен и пуст провал.
Руки — не крылья. Руки — может быть, два отростка,
предназначенные для неба, для зеленого моря листьев.
Кровь тоскует от одиночества, ударяется в сердце жестко.
Мы печальны от заблуждений, предрассудков и лживых истин.
Каждый город, спешащий, спящий, обдает немотой казематов,
тишиной сновидений, которые ливнем огненным канут в жижицу.
Все охрипло от невозможности улететь из этого ада.
Человек лежит, как раздавленный. Небо высится. Воздух движется.
Он возмечтал построить… Дыханья не хватило.
Тесать каменья… Стену воздвигнуть… А за нею
воздвигнуть образ ветра. Хотел, чтоб воплотило
его строенье света и вольности идею.
Хотел построить зданье, что всех строений легче…
Дыханья не хватило. А так ему мечталось,
чтоб камень был из перьев, чтоб, тяжесть прочь совлекши,
его воображенье, как море птиц, взметалось.
Смеялся. Пел. Работал. Подобно крыльям грома,
с неповторимой мощью, из рук его рабочих
просторные, как крылья, взрастали стены дома.
Но даже взмахи крыльев беднее и короче.
Ведь камень — тоже сила, когда в движенье. Скалы
равны полету, если рождаются лавины.
Но камень — это тяжесть. И тяжкие обвалы
в погибели желаний бывают неповинны.
Хотел создать строитель… Но камень у движенья
заимствует лишь плотность и грубую весомость.
Себе тюрьму он строил. И сам в свое строенье
низринут был. А рядом — и ветер и веселость.