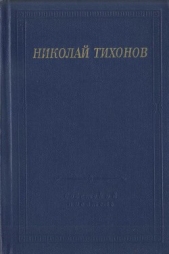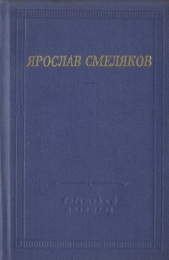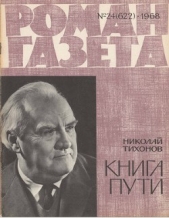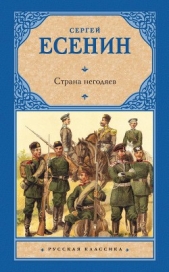Как будто был закат совсем не грозный
И в радио веселая волна,
Вставай, беги, постой, безумец, — поздно!
Я здесь стою у двери, я — Война!
Я кралась меж уловок дипломатов,
В шпионском шифре, между строк статей,
Чтобы упасть нежданной и крылатой
И зашуметь в полночной черноте.
И ты меня не знаешь: я такая —
Я пряталась пожаром торфяным,
И, тайному пожару потакая,
Жгли предо мной завесы душный дым,
Чтоб человек невольно задрожал,
Увидя в лоб несущийся пожар.
А как его движения стройны,
А как чудесен арсенал войны!
А как душа налетчика горда —
В перчатках белых рушить города,
Когда рукою легкой, как волчок,
Рычаг рванет и смерти даст толчок.
И вот под ним взамен столицы спящей
Встал дымом ад, горящий и вопящий;
Вы стелете искусственный туман
И танков бронированный таран
Пускаете, закрыв его туманом
И пронизав сначала газом пьяным.
И танки мчатся, давят, давят кости
Хохочущих от газа на погосте.
Хохочущий чудесен легион —
Уже хрипит, а всё хохочет он!
Великого художника потеха —
Придумать так: в бою сгореть от смеха!
И лучший повар будет поражен,
Коль огнемет в бою увидит он.
Что́ жарил он гуся крыло рябое!
Здесь человека жарят в кухне боя.
А гул тревог идет волной двойною,
Психологической зовясь войною,
И кажется смятенному уму,
Что враг вокруг, уж у него в дому.
Со льдом в глазах, с покрытой потом кожей
Тут все бегут, и бегство жертвы множит.
А сила газов! Перед нею немы
Все краски симфонической поэмы.
То человек лиловый, как цветок,
То жабы он желтее и бугристей,
То просто тень, и в ней трепещет ток,
То валится он головешкой чистой,
То, ослеплен, садится он и плачет
И боль по нем от сердца к мозгу скачет.
То жидкий воздух в бомбе загремел,
Как будто бы слетел лавиной мел.
Так в облаке известки, краски, пыли
Лежат куски, что прежде домом были.
Пыль улеглась, и уж спешите вы
Смотреть в кафе гостей без головы.
Или вагон трамвайный пополам
Снаряд разбил — дымит железный хлам.
Сто километров пройдено снарядом,
Чтобы отец упал с ребенком рядом.
А фосфор загоревшийся, скользя,
Ничем на свете потушить нельзя.
И улица горит, как муравейник,
Ржавеет дым, как осенью репейник,
И, словно мух, людей круговорот
Прихлопывает с неба пулемет.
Но помните, позвавшие меня,
Я не простой бегущий столб огня,
Покорный вашей кровожадной воле,
Сжигающий одно чужое поле, —
Нет, заповеди черные войны
Для всех сторон смертельны и равны.
И, вызвав газ, вы сами газ глотнете,
И бомбовоз услышите в полете
Над собственною крышей, трепеща,
И тень тревоги — серого плаща —
Вам выбелит и волосы и щеки,
И танка след увидите широкий
На собственной пылающей земле,
На городов разрушенных золе.
А как народ вас вытащит на суд —
Об этом мне чуть позже донесут!
История, отдернувши завесу,
Сегодня нам показывает пьесу.
Когда-то Рим нашел блестящий случай
И голодом Нумансию замучил.
Я тоже генерал — и сам не молод, —
Не смейтеся над генералом Голод!
Люблю фашистов я послушать речи —
Мне нравится их звук нечеловечий.
Тишайший генерал в мундире скромном,
Любуюсь я их планом вероломным.
Когда гремит огромный конь войны,
Мне стремена его не так важны,
Он мне милей не боевым наскоком —
Когда над ним сидят вороны скопом!
Пусть в первый день победы суждены,
Но я зовусь последним днем войны!
Со штабом всех болезней тише нищих
Я обхожу поля, леса, жилища.
Над мертвым краем мертвая метель —
И вьется пыль, где прежде вился хмель.
И там, где были водные пути,
Ни рыбака, ни рыбы не найти.
Вхожу я незаметно в города —
На улицах голодная орда.
А в магазинах тронут я картиной —
Лишь пауки корпят над паутиной.
Под стражею заводы на ходу,
Где трудится рабочий как в бреду,
И, жирных бомб обтачивая стенки,
Шатается, как тень кнута в застенке.
Рабочему, который изнемог,
Кладу осьмушку хлеба на станок.
Фашистские плакаты, беспокоясь,
Кричат свое: «Подтягивайте пояс!»
Полны газеты бешеных затей,
Рождаются уж дети без ногтей.
А стоны жен — утехи войнов бравых —
Приправлены болезней всех отравой.
Я прохожу по улицам нагим,
В глазах у встречных черные круги,
Дерутся из-за падали другие,
И вижу глаз зеленые круги я.
Я прихожу в раскрашенный дворец.
«Стой, кто идет?» — «Я, генерал Конец!»
И, побледнев под каской, часовой
Звонит в звонок над бедной головой.
И я иду, всей роскошью дыша,
Туда, где войн преступная душа,
Где в кабинете самых строгих линий
Сам Гитлер или, может, Муссолини.
То бычий череп с челюстью тяжелой,
Мясистый рот с усмешкой невеселой
И маленькие руки мясника,
Упершиеся в круглые бока,
Иль от бессонницы лицом желтея впалым,
С лунатика стеклянным взором вялым,
С клоком волос на лбу и на губе
И с кулаком на кресельной резьбе —
Мне всё равно: я с ними не жилец,
Мне всё равно: я — генерал Конец!
Я говорю, и плавно речь течет:
«Тряпичник я, пришел отдать отчет.
И лучшая помойка, как ни странно,
В которую вы превратили страны,
Тряпье и кости — больше ничего, —
Вот результат отчета моего.
После войны тридцатилетней, древней,
Исчезли замки, бурги и деревни,
И каждый немец, грустно поражен,
Был должен брать не менее двух жен.
Чтоб прокормить тех женщин хоть бы малость,
Мужчин в стране почти что не осталось.
Хотите ль вы того иль не хотите,
Но рушится фашистская обитель,
И миллионы, голодом ведомы,
Идут на ваши пышные хоромы.
И, штык подняв в гнилой воде окопа,
За мной идет голодная Европа.
Вам не придется издавать закон,
Чтоб каждый брал не менее двух жен, —
Нет, голодом гонимые, те жены
Не будут вашим палачом сражены.
Всё это называется судьбой —
Я их веду на их последний бой!
Я тоже генерал из самых голых —
Не смейтеся над генералом Голод!»