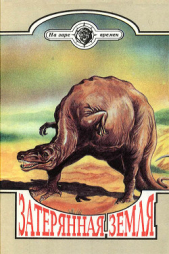Стихотворения. Прощание. Трижды содрогнувшаяся земля

Стихотворения. Прощание. Трижды содрогнувшаяся земля читать книгу онлайн
"Прощание" (1940) (перевод И. А. Горкиной и И. А. Горкина) - роман о корнях и истоках гитлеровского фашизма. Это роман большой реалистической силы. Необыкновенная тщательность изображения деталей быта и нравов, точность воплощения социальных характеров, блестящие зарисовки среды и обстановки, тонкие психологические характеристики - все это свидетельства реалистического мастерства писателя.
"Трижды содрогнувшаяся земля" (перевод Г. Я. Снимщиковой) - небольшие рассказы о виденном, пережитом и наблюденном, о продуманном и прочувствованном, о пропущенном через "фильтры" ума и сердца.
Стихотворения в переводе Е. Николаевской, В. Микушевича, А. Голембы, Л. Гинзбурга, Ю. Корнеева, В. Левика, С. Северцева, В. Инбер и др.
Вступительная статья и составление А. Дымшица.
Примечания Г. Егоровой.
Иллюстрации М. Туровского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда убийцу арестовали, он пил из пустого стакана, пил, не отрываясь, осушал целые реки молока и, опьянев от молока, лишь постепенно принимал облик таможенного инспектора, но от мальчишеской улыбки и от удовлетворенного чмоканья так и не смог отделаться.
Доктор Гох говорил лихорадочно, сбивчиво, он то и дело к чему-то прислушивался и озирался по сторонам.
— Слышите? — спросил он вдруг. — Кто-то поднимается по лестнице, дверная ручка… вот она шевелится, а кто посмел раздвинуть стены, теперь все эти скотские рыла уставились на меня! Проклятые квартальные врачи, они расселись по крышам и следят за мной в подзорную трубу… Кто это колет меня иголками? Кто зовет меня по имени? Не троньте меня, говорю я вам, руки прочь, или я буду стрелять… — Точно спасаясь от погони, он отбежал в самый отдаленный угол ателье, набросил на голову одеяло и жалобно заскулил: — Пустите меня! Я не хочу, я не пойду. Я не нуждаюсь в лечении. Я совершенно нормален. Я сейчас докажу это.
Зака, видимо, нисколько не беспокоило поведение доктора Гоха.
— Легкий приступ мании преследования, Гох скоро придет в себя…
«Нам есть что порассказать, — гордо переглянулись мы с Левенштейном. — Зачем нам «тот»? И без него у нас интересная жизнь».
Зак выпрямился, сидя в постели.
— Не думайте, братья, что и я рехнулся и мои разговоры
о лучшей жизни несерьезны! Грядут новые времена, слышите, я говорю вам это. Мысли человека будут обнажены до тончайших извилин, а чувства разворошены в их затаенных глубинах. Многие куда-то устремляются в поисках приключений. Между тем внутри нас разыгрываются самые фантастические приключения. С ложью о «гармоничном» человеке покончено. Человек — это арена битв… Кровавые противоречия… Чудовищные злодеяния…
Зак тоже посмотрел в окно, следя за плывущими облаками.
— А потому…
Он помолчал, усаживаясь поудобнее на сбившейся постели.
— А потому каждый из нас должен очень зорко следить за собой, если он хочет стать хорошим человеком… Никогда никому не отказывайте в стакане молока, никогда… Каждый из пас проницаем для другого, но и каждый из нас проникает в другого… Закон сохранения энергии не только физиологический закон… и в психической сфере ничто не пропадает… Невероятные последствия… новая мораль… Новая теория спасения! Новое учение о человеческом счастье! Вот оно, да, вот оно, наконец!
Теперь и Зак сказал: «Вот оно, да, вот оно, наконец!» — и опять посмотрел в окно.
Так я смотрел в окно на пансион Зуснер, когда умирала фрейлейн Лаутензак, и это бесследное исчезновение оставило вечный след.
— Но что-то должно произойти… Так дальше продолжаться не может… И это что-то вытянет нас из трясины…
Он словно искал это «что-то» на горизонте, вдали.
— Какое-нибудь грандиозное событие! Чудо! — Опять он помолчал, потом быстро проговорил: — Хорошо бы взрыв! Скажем, целый город взлетает на воздух! Что бы ни произошло, все равно, лишь бы что-то из ряда вон выходящее, лишь бы оно разнесло вдребезги весь этот обман! Какой-нибудь грандиозный бунт! Грандиозная передряга! Или… или…
В ателье вдруг стало очень тихо. Из угла, где сидел скрючившись доктор Гох, доносилось тоненькое повизгивание и всхлипывание. Жена Зака ни на минуту не переставала писать, слышно было, как скрипит перо по бумаге. Беспредельный небесный простор, точно волнующийся океан, синеющий в широком окне, казалось, приблизился. Мы с Левенштейном старались не ерзать на стульях, и все-таки стулья под нами кряхтели, а пол повсюду потрескивал.
— Нет-нет-нет, только не это, — скулил в своем углу доктор Гох.
Зак уставился на одеяло, затем поднял палец.
— Или… или? Только — тс! тс! молчок! Знайте это каждый про себя… С трехкомнатной квартирой на Куфштейнерплац надо проститься, — двадцать раз по пяти пфеннигов каждый божий день мне тоже уж не собрать… Лошадка, брось переписывать, все это теперь ни к чему, слышишь? Дети, дети! Если бы вы знали то, что знаю я! Оно придет, оно…
— Нет-нет-нет! Только не это! — отчаянно сопротивлялся чему-то в своем углу доктор Гох, потом послышался стон, и Гох соскользнул на пол.
Зак посмотрел на нас горящими глазами.
— Вы не знаете? Не догадываетесь? Подите сюда, я скажу вам на ухо…
Я услышал, как он шепнул Левенштейну:
— Война.
Пришлось и мне наклониться и подставить ухо.
— Война! — шепнул он.
Тем временем доктор Гох вышел из своего угла. Странно медленным шагом шел он через ателье. Стараясь двигаться, как нормальный человек, он с такой точностью воспроизводил каждый элемент шага, что, казалось, это па какого-то призрачного танца; казалось, Гох весь на проволочках, и кто-то, быть может, один из тех, что засели на крыше, дергает за них и приводит его в это жуткое, замедленное движение. Торжествующе улыбаясь, Гох повернулся к тем, кто невидимо для нас наблюдал за ним с отдаленных крыш, желтовато поблескивающих в лучах заходящего солнца. Обстоятельно, разлагая и это движение на составные части, он опустился на стул и сделал попытку закурить. Словно ему стоило мучительных усилий вернуться к нормальной жизни, словно ему впервые дали в руки спичечный коробок, старался он, трясясь от робости, зажечь спичку. Вдруг движения его ускорились, он сел спиной к окну, закурил и с зажженной спичкой в руках стал жадно втягивать в себя табачный дым. Он протрезвел.
Потом обломком зубочистки снова зачерпнул щепотку белого порошка…
Когда мы спускались по лестнице, я тщетно старался освободиться от засевшего в ушах шепота.
— Надо бы… Как ты думаешь, что «он» сказал бы на все
это?
Но Левенштейн предупредил меня:
— Слушай, дело принимает серьезный оборот… Не думаешь ли ты, что следовало бы…
Мы обменялись взглядами, точно искали друг у друга поддержки.
Я был уже близко, совсем близко к ней, к Новой жизни. Но волна страха опять отбросила меня далеко назад, страшно далеко. «Только не он! Только не он!» — твердили мне дома, а Фек, пусть он и уродился плюгавым, пусть он и дрожал, увидев скамью, на которой сидел когда-то с Дузель, все же вырос со времени нашего разговора в Английском парке, гигантски вырос; закованный в броню своей решительности, он командовал: «Смирно!» А я, так высоко взлетевший, по вине своей нерешительности превратился в жалкую, ничтожную пешку… И Левенштейна увлек за собой в своем падении. Я, Смиренник, опять оттолкнул от себя Стойкую жизнь.
С чувством безнадежности спускались мы на дно лестничного колодца и, выйдя на улицу, быстро, не прощаясь, разошлись в разные стороны. Мы убегали друг от друга, словно могли, убежав от чужой слабости, скрыться от собственной. Я слушал себя самого: «Два противоположных потока страшной силы гонят меня, ввергая в водоворот, и я верчусь вокруг своей оси… Ах, наш брат! О, такой, как я!»
Несколько дней спустя мы приняли участие в совместном выступлении художников и поэтов кафе «Стефани» против непопулярного в нашем кругу редактора «Мюнхенских новостей». Этот писака осмелился в своем «Литературном обзоре» усомниться в гениальности жрецов искусства из кафе «Стефани». Мы сочли своим долгом раз и навсегда вправить мозги этому гонителю искусства. Объявили его самым закоснелым из мещан, рупором тех, кого нам теперь часто удавалось доводить до белого каления; всякого из этой братии, кто попадал в кафе «Стефани», мы встречали канонадой свирепой ругани и бывали очень довольны, если дело кончалось потасовкой.
Всей оравой, предводительствуемые Крейбихом, — Левенштейн и я с важными минами замыкали шествие, — мы шумно двинулись на Зендлингерштрассе. Говорить от имени всех поручено было Заку, но, по мнению Крейбиха, разговаривать особенно было не о чем: надо действовать «ударными» аргументами. Швейцар повел нас на второй этаж; нас не заставили ждать и тотчас же впустили в кабинет редактора. Навстречу нам из-за письменного стола поднялся пожилой кругленький человечек, и, приветливо улыбаясь, пожал каждому руку.