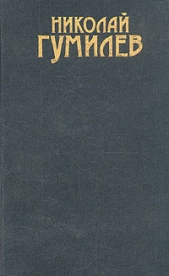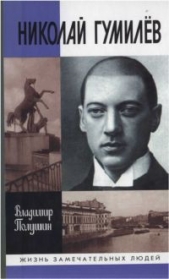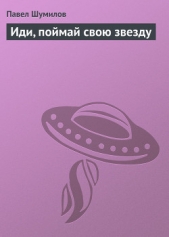Видишь, мчатся обезьяны
С диким криком на лианы,
Что свисают низко, низко,
Слышишь шорох многих ног?
Это значит — близко, близко
От твоей лесной поляны
Разъяренный носорог.
Видишь общее смятенье,
Слышишь топот? Нет сомненья,
Если даже буйвол сонный
Отступает глубже в грязь.
Но, в нездешнее влюбленный,
Не ищи себе спасенья,
Убегая и таясь.
Подними высоко руки
С песней счастья и разлуки,
Взоры в розовых туманах
Мысль далеко уведут,
И из стран обетованных
Нам незримые фелуки
За тобою приплывут.
На таинственном озере Чад
Посреди вековых баобабов
Вырезные фелуки стремят
На заре величавых арабов.
По лесистым его берегам
И в горах, у зеленых подножий,
Поклоняются страшным богам
Девы-жрицы с эбеновой кожей.
Я была женой могучего вождя,
Дочерью властительного Чада,
Я одна во время зимнего дождя
Совершала таинство обряда.
Говорили — на сто миль вокруг
Женщин не было меня светлее,
Я браслетов не снимала с рук.
И янтарь всегда висел на шее.
Белый воин был так строен,
Губы красны, взор спокоен,
Он был истинным вождем;
И открылась в сердце дверца,
А когда нам шепчет сердце,
Мы не боремся, не ждем.
Он сказал мне, что едва ли
И во Франции видали
Обольстительней меня,
И как только день растает,
Для двоих он оседлает
Берберийского коня.
Муж мой гнался с верным луком,
Пробегал лесные чащи,
Перепрыгивал овраги,
Плыл по сумрачным озерам
И достался смертным мукам;
Видел только день палящий
Труп свирепого бродяги,
Труп покрытого позором.
А на быстром и сильном верблюде,
Утопая в ласкающей груде
Шкур звериных и шелковых тканей,
Уносилась я птицей на север,
Я ломала мой редкостный веер,
Упиваясь восторгом заране.
Раздвигала я гибкие складки
У моей разноцветной палатки
И, смеясь, наклонялась в оконце,
Я смотрела, как прыгает солнце
В голубых глазах европейца.
А теперь, как мертвая смоковница,
У которой листья облетели,
Я ненужно-скучная любовница,
Словно вещь, я брошена в Марселе.
Чтоб питаться жалкими отбросами,
Чтобы жить, вечернею порою
Я пляшу пред пьяными матросами,
И они, Смеясь, владеют мною.
Робкий ум мой обессилен бедами,
Взор мой с каждым часом угасает…
Умереть? Но там, в полях неведомых,
Там мой муж, он ждет и не прощает.
От кормы, изукрашенной красным,
Дорогие плывут ароматы
В трюм, где скрылись в волненьи опасном
С угрожающим видом пираты.
С затаенной злобой боязни
Говорят, то храбрясь, то бледнея,
И вполголоса требуют казни,
Головы молодого Помпея.
Сколько дней они служат рабами,
То покорно, то с гневом напрасным,
И не смеют бродить под шатрами,
На корме, изукрашенной красным.
Слышен зов. Это голос Помпея,
Окруженного стаей голубок.
Он кричит: «Эй, собаки, живее!
Где вино? Высыхает мой кубок».
И над морем седым и пустынным,
Приподнявшись лениво на локте,
Посыпает толченым рубином
Розоватые, длинные ногти.
И оставив мечтанья о мести,
Умолкают смущенно пираты
И несут, раболепные, вместе
И вино, и цветы, и гранаты.
Ромул и Рем взошли на гору,
Холм перед ними был дик и нем.
Ромул сказал: «Здесь будет город».
«Город, как солнце» — ответил Рем.
Ромул сказал: «Волей созвездий
Мы обрели наш древний почет».
Рем отвечал: «Что было прежде,
Надо забыть, глянем вперед».
«Здесь будет цирк, — промолвил Ромул, —
Здесь будет дом наш, открытый всем».
«Но надо поставить ближе к дому
Могильные склепы» — ответил Рем.
Консул добр: на арене кровавой
Третий день не кончаются игры,
И совсем обезумели тигры,
Дышут древнею злобой удавы.
А слоны, а медведи! Такими
Опьянелыми кровью бойцами,
Туром, бьющим повсюду рогами,
Любовались едва ли и в Риме.
И тогда лишь был отдан им пленный,
Весь израненный, вождь аламанов,
Заклинатель ветров и туманов
И убийца с глазами гиены.
Как хотели мы этого часа!
Ждали битвы, мы знали — он смелый.
Бейте, звери, горячее тело,
Рвите, звери, кровавое мясо!
Но, прижавшись к перилам дубовым,
Вдруг завыл он, спокойный и хмурый,
И согласным ответили ревом
И медведи, и волки, и туры.
Распластались покорно удавы,
И упали слоны на колени,
Ожидая его повелений,
Поднимали свой хобот кровавый.
Консул, консул и вечные боги,
Мы такого еще не видали!
Ведь голодные тигры лизали
Колдуну запыленные ноги.