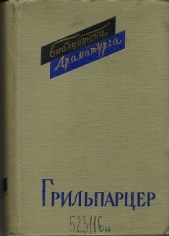I
И вот брусчатка, мостовая,
здесь сумрак и сквозняк. Решайся.
Червлёной нефтью льётся ночь,
неповторима, повторима.
Три фонаря. Пологий спуск.
Я в этот глянец диабаза
уткнулась бы щекой, ладонью
его ласкала и воспела —
когда не изгородью стих,
вьюнком, лозою вьётся, вьётся,
тихонько покрывает тело
с ним примирившегося дома,
и можно даже не смотреть
потом на лица и одежды,
раз в первородной черноте
перевила, перевязала,
лишила эха, вобрала.
II
Очнуться в лёгочном дыму
напротив ёлочного сада
среди покинутых, больных,
покрытых плесенью и снегом.
Поверь мне, я не умерла,
лепечет, шепчет ёлка, ёлка,
ведь хвоя — шерсть, её теряя —
игрушки мучают, страшат —
как ты, я голой становлюсь.
Я — до рождения младенец,
в утробе канувший, пропавший,
ну, в общем, ангел. Каменея,
сухие иглы жгут лицо,
под ветром косточки крошатся,
и с кочерыжкою ствола
теперь уже не молвить слова.
Вели, как этот сад, казнить.
III
Прогонит и вернёт, прогонит
и снова выйдет и вернёт,
промокнувшая в темноте,
закутается плоть живая.
Он спал, и, погружённый в воду,
трап самолёта в горле сна
не отплывал, не удалялся,
был вроде вобранных шасси:
держал как рыб над океаном.
Она опаздывала, ждал
и вспоминал не наказанье,
начало: перекрёсток взглядов,
в них дом пылал — не был спасён,
неосторожный пыл замечен.
Сняв туфлю, женщина спешит
по острой гальке. Кровь сочится
из зацелованной ноги.
IV
Ты видел: было убежав,
исчезнув в поисках спасенья,
обкрадывая наспех, помня,
что боль другого только льстит,
я спохватилась — и всё тише,
всё медленнее, как пластинка,
которой выключили ток,
стирая звук и замолкая,
вертелась — и остановилась.
Так сердце тихо, словно голос,
и так темно, темно, темно,
ни притяжения родства,
ни пения, ни покаянья
ты не увидишь, не возьмёшь,
как слепоту его, не тронешь.
Спасенья нет. Но ты бормочешь.
Должно помочь. Должно помочь.
V
Я не нашла другого дня,
чтоб о предательстве оставить
не память, но прикосновенье
своё в предательстве открыть,
своё молчание, а слуху
доверить пониманье сна.
Ты не нашёл другого горя,
чтоб опрокинуть и сказать:
я помню, я не изменился,
любви не вылечить огнём.
И я лечу на самолёте
и вижу города огни,
неисчислимые, как зёрна,
ненаходимые, как ложь,
в которой вязнет, угасает,
размазывается, намокнув,
окурок, брошенный тобой.
VI
Придёт весна, и золотой,
как спаниель под солнцем зимним,
заскачет, затанцует свет
вприпрыжку в анфиладе комнат.
Квартира в верхнем этаже,
куда он пригласил девчонку,
пришедшую тайком, бочком,
взглянуть на дом его и окна,
в студенческих штанах и куртке,
им узнанную у парадной,
была полна такого света.
И ей так радостно, тепло,
она как будто оказалась
в лучах сорвавшейся весны,
забытой, полноводной, новой,
и компас, найденный в кармане,
она спешит вернуть ему.
VII
Любовью — бабочкой во рту —
полузакрытыми глазами
пью неба утреннего свет,
как из реки в ладонях воду:
сосредоточенный на бликах,
живущих под лесным мостом
над безымянным истеченьем,
взгляд то и дело отвлекался,
невольно следовал, скользил
за продолжающимся бегом,
как бы желая проследить
пути искристой вереницы.
Так пробуждается, лежит,
садясь, нащупывает тапки,
встаёт, несёт себя до ванной.
Вкус холода щекочет нёбо.
Щекочет и щекочет нёбо.
VIII
Март кошкой тянется к окну,
ко сну заброшенной больницы,
за нею, слева на холме,
живёт разрушенная башня,
внизу закрытый детский сад,
он стал открытым детским домом,
его почти скрывает тополь,
который тянется, как март,
царапает стекло балкона,
шипит и роет тёплый снег
и когти-почки выпускает.
Но птицам что! Они уходом
зимы, как звери, не больны.
Пока, разбужены землёй,
те человечий голод воют,
с чужих морей они летят
к своим осыпавшимся гнёздам.
IX
Не провожай, как навсегда,
не трогай за рукав, лоток
рискует выпасть из пакета,
в лотке сегодняшний обед:
картошка, сваренное мясо,
кусочки хлеба и батона.
Я проезжаю по горам,
стоят заснеженные ёлки,
дорога мчится под уклон,
в квартире остывает чайник,
висят носки на батарее,
тепло уходит, но хранят
тепло твои прикосновенья.
Мне снова снится, что идём
в кинотеатр, закрытый ныне,
в ладони голубой билетик
на первый утренний сеанс.
X
Пока один, пока один,
тебя не тронут ночь и память
об одиночестве. И мне
твои понравятся отъезды
из гибнущей квартиры. А
ты помнишь — кажется, апрель,
и чёрный дождь, которым город
нас помирил и свёл наутро,
и синева, земля, асфальт,
гора над прудом, тихо; ветер,
студивший нам ладони, уши
и побеждённый коньяком?
Край света, окоём свеченья —
уже без снега, но до листьев
весна, качаясь и вращаясь,
как маятник, недостижима,
как сон, где ты меня коснёшься.
XI
Смотри, как в этой темноте
мерцает время, удаляясь,
плывут в беспамятстве огни,
и в них, одни, плывём мы оба,
в объятьях этой темноты,
самой как выцветшее пламя,
как вылинявшая трава,
как выгоревший дождь под солнцем.
Туманным белым маяком
луна проглядывает рядом,
не в силах справиться с двумя
источниками света, тихо
лучом касается воды,
ища ответа в отраженье,
забыв, что отраженье — сон,
и сон бледнеет, сон бледнеет,
а мы по-прежнему вдвоём.
XII
Неодолимо, как «прощай»,
оно лепечет: здравствуй, здравствуй,
рассказывая и опомнясь,
согревшись и огонь вернув.
Так в наводненье сходят в воду,
так переламывают хворост,
вот свет, а вот источник света,
вот стороны у света: тень —
тень, север, запад, юг, восток.
Тебе не больно? Мне не больно.
Тебе не страшно? Мне — до слёз.
Я отгадала наказанье:
я обниму, я улыбнусь
движению над головою —
сад расцветает, кот поёт,
мы просыпаемся в разлуке.
Беги, я снова не смотрю.
XIII
Дом, и не вспомнишь, как теперь назвать,
такое в нём текло, перебродило
и выгорело старым одеялом,
толкнуло и шепнуло: ты не в них,
не в меченых и рвущихся предметах
стараешься воскреснуть и унять
коротким эхом загородных комнат
из города спасённую тоску,
закатанную в баночке вареньем,
что возят с дачи, ты же привезла,
как лакомство заморское, на дачу,
иди и тешься, вот идёт река
над листьями, покрытыми загаром,
под ласточек стежки, как на качелях,
дыши рекой, в реке наполовину —
лёг дождь на деревянные скамейки,
он шёл, и перестал, и вновь пошёл.
XIV
На крыше или на горе,
цветущей над зелёным морем,
стоишь и видишь корабли,
ушедшие за край восхода.
— Земля, земля! — кричишь, не помня
того, что понял на земле,
которую забыл охотно,
как только от неё отторг
себя и спутника, с которым
взошёл, невзвидел, разлюбил.
Мне больше некого бояться
и словно нечего терять,
здесь тот же воздух, те же птицы,
не в клетках, вольно гнёзда вьют
и нас уже не замечают —
пожалуй, можно и спускаться,
теперь неважно, что одна.
XV
Иду, оглядываясь на
твой город, город, город, город,
отчаяние и парящий,
над небом вознесённый змей —
всего отчётливее видно,
как он взлетает и поёт
в потоках воздуха восшедших.
Как договаривались, ты
его не отпускаешь нитку,
и, проходя аэропорт,
я отличу от самолёта
его, поскольку змей — в одной
сияющей от взгляда точке,
а самолёты — догоняй
не догоняй, не остановишь.
Не останавливайся, не
забудь, что я иду навстречу.
XVI
Мы будем холоду и сну,
обнявшись, радоваться, голос
померкнет, будучи зарыт
под одеяла и окончен
тяжёлой тёплою зимой,
чем ближе, тем ему ненужней
звучать, где тишина, там дом:
позвякивание посуды,
поскрипыванье половиц,
похлопыванье дверцы шкафа —
здесь стали голосу равны
и пойманному сном дыханью.
Живым отсюда не уснуть,
и, улыбнувшись, я открыла
окно и выпустила дым.
Горит восток зарёю новой.
Светает, скоро рассветёт.
XVII
Он был там и вернулся, сел
и попросил густого чаю,
облокотился, протянул
ладонь, услышав дождь; окно
в соседнем доме колыхнулось,
мигнуло и пропало, он,
себя увидев, ужаснулся,
но не по-новому, закрыл
глаза — и сон его окутал.
Она была к нему спиной,
смотрела на горящий чайник,
рассказывала: в тот же день,
как ты уехал, на пороге,
под лестницей, нашла змею —
в клубок свилась, ушла тогда лишь,
когда плеснула кипятком.
Дом слушал и стонал от ветра.