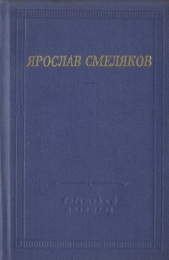Солнца веселого утренний жар
темные тучи прогнал с небосвода.
Погреб открыт и распахнут амбар —
в нашу Уфу на колхозный базар
осень свои снаряжает подводы.
…Видел не раз я глазами юнца
дни отошедшие, время другое.
Злобою наши кипели сердца
в час, когда, славя богатство купца,
пел колокольчик под алой дугою.
Поле в пастушеских ярких кострах.
Мы окружали огонь осторожно,
а конокрады на наших конях,
нагло свистя, гарцевали впотьмах,
словно тузы из колоды картежной.
Стаею волчьей они налетят,
как на отару, уснувшую в поле,
целятся в лоб, кистенями грозят, —
всё у них есть, а у наших ребят
только батрацкие горсти мозолей.
Слушая ржанье своих лошадей,
мы на базаре скрипели зубами,
а конокрады оравою всей
наших при нас продавали коней,
громко божась и махая руками.
Помню базарных рядов ералаш,
пение нищих и пьяную свару,
сотни покупок и тысячи краж.
Щеки надув, оренбургский торгаш
Важно стоит посредине базара.
Глазки торговца товар стерегут;
утром и в полдень, в тумане и мраке
золото ищут, уснуть не дают, —
так за лисой золотою бегут,
пасти раскрыв, две худые собаки.
Солнце базар заливает дневной.
Жаждет торговец — такая натура! —
солнце продать и разжиться деньгой,
наши глаза напоить темнотой.
Сам ты ослепни, торговая шкура!
Деньги откуда возьмут батраки?
Мы и рубля не видали ни разу:
лапти плели и на те медяки
белые приобретали платки
и подносили своим черноглазым.
Деньги на грязных прилавках звенят,
полдень наполнен жарою и смрадом,
ржут жеребцы, поросята визжат.
Без передышки торговки кричат:
«Эй, покупайте — кому чего надо!»
Дяде бы лесу на избу купить,
всю бы родню пригласить на веселье.
Мне бы рубаху для праздника сшить,
брагу у дяди стаканами пить,
петь и плясать на его новоселье.
Вырос на дядину долю лесок —
срезали рощу помещичьи пилы.
Желудь, тяни свой зеленый росток, —
жаль, что, пока зашумишь ты, дубок,
дядя умолкнет под сводом могилы.
Я — для рубахи — не так чтоб давно —
семя в кармане нашарил льняное.
Рад, что нашарил, а жаль, что — одно,
жаль, что, пока разрастется оно,
сам я усну под могильной землею.
Сруба, мой дядя, тебе не видать,
не приглашать всю родню на веселье,
новой рубахи мне не надевать,
и не придется мне петь и плясать
целую ночь на твоем новоселье.
Я, поневоле замедлив шаги,
жарко дышу в человеческой давке,
вижу товары, гляжу на торги.
До смерти рад бы купить сапоги —
те, что блистают на этом прилавке.
Завтра же утром обул бы я их,
волосы щедро намазал бы салом,—
чем не красавец и чем не жених?
Плакала б ты, покидая родных,
под подвенечным своим покрывалом.
Брату купить воротник не легко,
денег на мех у него не хватает.
В зимнем сибирском лесу — далеко —
прыгают белки по веткам легко,
лисы хвостами следы заметают.
Нас, молодых сыновей, старики,
словно орлов, из гнезда отпустили;
дали нам званье свое — батраки,
дали в наследство нам по две руки,
солнцем и звездами нас наградили.
Солнца веселого утренний жар
темные тучи прогнал с небосвода.
Погреб открыт и распахнут амбар —
в нашу Уфу на колхозный базар
осень свои отправляет подводы.
Вот на базар из селений родных
стайкой спешат молодые подруги.
Радостно жить им в лучах золотых.
Выгнуты черные брови у них,
как бугульминские гнутые дуги.
Юным невестам привет и хвала!
Вы на полях потрудились немало.
Яркий румянец не зря отдала,
словно подарок, подругам села
красная вишня отрогов Урала.
Вот я иду, замедляя свой шаг.
Всем меня радует ярмарка эта:
щедростью наших полей на возах,
правдой в речах и весельем в глазах,
встречей с колхозником Кара-Ахметом.
«Здравствуй, умелый садовник Ахмет!»
Дружбы прекрасны старинные узы.
Это отлично — сомнения нет,—
если с читателем вместе поэт
дружно сидят, наслаждаясь арбузом.
Гордо хожу я меж яблочных гор,
между прилавками шелка и ситца.
Время богатое радует взор.
«Дай-ка, товарищ, мне этот ковер!
Сколько платить мне за эту лисицу?».
<1966>